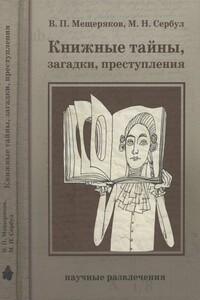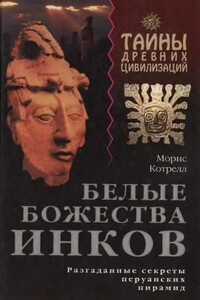Знание-сила, 2005 № 03 (933) | страница 26
Они были раскованны, свободны, задавали множество вопросов, часто содержавших уже и собственную позицию, непринужденно рассказывали каждый свои случаи из практики, делясь опытом, откровенно высказывались и о нынешних своих трудностях, и о своей оценке событий прошлого века. Все это происходило не только в отведенные для дискуссий часы, но и между докладами, в перерывах между заседаниями, за обедом, вечером в комнатах и холлах пансионата.
Научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Анна Минаева поделилась с учителями, которые, по сути, стали уже ее коллегами, опытом современных фольклорных экспедиций. Я не случайно сказала "современных" - наряду с традиционными появились новые фольклористы, которые не записывают частушки, былички, поговорки и поверья, а работают с рукописями и рассказами наших современников о их жизни и быте советских времен, семейными преданиями о коллективизации. репрессиях, войне — короче говоря, практически делают то же самое, что старшеклассники — участники конкурса.
И встречаются с теми же самыми трудностями, пытаясь "разговорить" собеседника. Спросишь осторожно: "Вот, говорят, теперь жизнь другая — а какая она была прежде, мы ведь не знаем" — может, сработает, а может, нет. Спросишь про то, как работал во время войны, — но фольклорист из Москвы по массовому ощущению вроде начальства; и герой наш заводит песню: во время войны наш завод выпускал столько-то чего-то, героическим трудом наших рабочих... ну, и так далее...
— Известный человек, который часто выступает со своими воспоминаниями в школах, — неважный выбор для исследования, — вторит Ирина Островская, научный сотрудник архива общества "Мемориал". — Тут больше вероятности услышать рассказ, полностью ориентированный на аудиторию, все говорится "как положено", обкатанными штампами, и сам человек давно не отличает правду от вымысла, в который успел поверить. Вам нужен обычный человек, всегда сидевший в сторонке, помалкивавший. Но его разговорить — тоже искусство, он всю жизнь не ходил в рубашках с короткими рукавами, чтобы не увидели номер на руке со времен концлагеря, и не надо никаких вопросов, не ваше дело. Ну, придет к нему ребенок, 13-16 лет, да еще не свой, а чужой — что он, заговорит сразу? Меня Юрий Рост учил, как надо брать интервью:
Знаменитый "вороном" в тридцатые годы внушал нуда больший ужас, чем мистичесний ворон Эдгара По. На фото: "вороном" доставляет подсудимых на процесс по Шахтинсмому делу