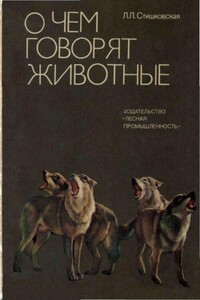Знание-сила, 2005 № 01 (931) | страница 85
Если бы тот художник был врачом и провел не менее 150 сеансов, то наверняка вылечил бы ее. Дело здесь не в том, что скульптор справился с работой слишком быстро. Просто портрет должен продвигаться по мере улучшения состояния пациента. А это надо чувствовать. И подчиняться изменениям времени.
Когда начинается лечение, мы с больным меряем время не часами, а сеансами. Скажем, на первом сеансе слепили яйцо, обозначили контуры лица и взялись прорабатывать детали. Пациент смотрит, сравнивает. Но важно не то, что я делаю руками, а диалог, который возникает между нами в присутствии портрета. Я работаю, пока не почувствую, что исчерпал себя. Останавливаюсь. На мольберте — маска. Когда закончится второй сеанс, будет вторая, новая маска. Масок столько же, сколько сеансов. Их концовки улавливаются интуитивно. Количества сеансов не знает никто.
И так — пока работа не зайдет в тупик. Когда я понимаю, что в следующий раз нс смогу добавить в портрете ничего нового, наступают каникулы: месяца на два, а то и больше. За время каникул с больным происходит интересная метаморфоза. Его внутреннее пространство, которое раньше занимала болезнь, наполняется чем-то новым. Кажется — мистика, но после перерыва пациент приходит другим. Чтобы избавить человека от параноидной шизофрении, как правило, требуется два-три этапа. В редких случаях—больше.
— А сколько длится один сеанс?
— Как-то раз у меня лечился больной из Полтавы. Его портрет был почти завершен, и мы устроили каникулы. Через некоторое время решили продолжить. Когда пациент вошел в мастерскую, я был уверен, что на завершение понадобится буквально пять минут. Но работали мы без перерыва 60 часов! Это пока остается самым длинным сеансом. А самый короткий —17 секунд. Очень напряженный получился сеанс: сели, полепили, поговорили весьма резко, разошлись. Кажется, что можно сделать за 17 секунд? Уверяю, на портрете было достигнуто качество, которого в другой раз я едва добился за 60 часов. А у пациента после этих секунд начались улучшения.
Тут дело не только во вдохновении, но еще и в клинических наблюдениях. Я заметил следующее: когда больной знает, что время его общения с врачом ограничено, он путается в мыслях, суетится, на вопросы отвечает невпопад. Но если врач готов общаться, сколько потребуется, пациент раскрепощается. Ни суеты в поведении, ни путницы в мыслях. Говорит коротко и точно. И оказывается: чтобы выяснить у врача все, что хотелось, нужно совсем немного времени.