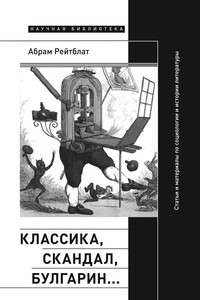Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции | страница 54
Сразу же отметим, что просвещение (и его результат – «образованность») для Пушкина – высочайшая ценность и в своих высказываниях он воспроизводит ключевую просвещенческую парадигму, согласно которой человечество движется от состояния дикости, когда людьми управляют предрассудки и суеверия, к состоянию просвещения, когда царствуют знания и разум. Так, он с осуждением пишет про «суеверия и предрассудки» (XI, с. 239)[179], с удовлетворением отмечает, что в Европе «образующееся просвещение было спасено <…> Россией…» (XI, с. 268), и сожалеет, что в России в период после свержения татарского ига обстоятельства «не благоприятствовали свободному развитию просвещения» (там же). Однако при Петре, по Пушкину, «европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» (XI, с. 269). Пушкин полагает, что «правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения» (XI, с. 223), а вот «недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения» (XI, с. 43), «одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия» (XI, с. 44).
Он считает, что «государственные учреждения Петра Великого» – «плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости…»[180]; поэтому его имя «всякой русской произносит с уважением» (XI, с. 153). Но при этом Пушкин – не абсолютный «западник», по его мнению, в ходе реформирования нужно учитывать специфические особенности России, характер ее прошлого: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию <…>. Есть образ мысли и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» (XI, с. 40); «…Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; <…> история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории християнского Запада» (XI, с. 127). Поэтому, настаивая на европеизации России, он признает, что «влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества» (XI, с. 43). В частности, он резко выступает против «французской философии» (XII, с. 31), имея в виду философов-энциклопедистов Гельвеция, Дидро и др., взгляды которых характеризует как «жалкие скептические умствования» (XII, с. 69). Называя правление якобинцев «временем Ужаса» (XII, с. 34), он радовался в 1834 г., что запрещен журнал «Московский телеграф», поскольку «мудрено с большей наглостию проповедовать якобинизм перед носом правительства» (XII, с. 324).