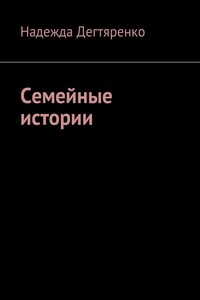Хождение по своим ранам | страница 34
Я свернул с посыпанного горячим песком булыжника и ступил на повитую повилихой, шмыгающую мелкими камешками тропинку. Мне хотелось спрятать себя в нависшей над Доном какой-нибудь древесной заросли, в ее заманчиво-муравейной прохладе. Тропинка уткнулась в могучие, оголенно бугреющие корни полого, зияющего всем нутром, несуразно стоящего вяза. Я мог войти в него и сидеть в нем, как скворец в скворешнике, но я пришел подышать Доном, пришел к самому себе, к своей далекой молодости. И все же я остановился, даже сбросил рюкзак, чтобы оглядеть коряжистое дерево. Не знаю, что бы сказали специалисты, доктора нашего зеленого хозяйства, вероятно, они бы сказали, что вяз одуплел от старости, от уходящей из-под корней почвы, от оползня, но достаточно обратить внимание на сухую, расщепленно торчащую макушку, на то, что омертвело, чтобы определить причину жестокого и непоправимого уродства.
Выбрал на неприметной, опушенной одуванчиками, прохладно затененной траве укромное местечко, сел на него, обхватив руками приподнятые колени, и почему-то снова глянул на расщепленную, сухую макушку вяза, стараясь уяснить: снарядом, миной или бомбой изуродовало пускай не человеческую, но также наделенную своими болями, своими печалями, одной и той же матерью дарованную жизнь?
Уяснить вряд ли теперь возможно: мог ударить снаряд, скорее всего, он и ударил, как раз тогда, когда я сидел в своем накрытом плащ-палаткой окопчике.
Зажмурил глаза, сквозь пальцы лежащей на них ладони посыпались золотые лепестки все еще стоящего в зрачках нестерпимо яркого солнца. Золотые лепестки засыпали меня с ног до головы, и я почувствовал, что засыпаю. И не мудрено: встал рано. Впрочем, я и не ложился, всю ночь писал письмо, предаваясь волшебному соблазну не очень-то веселых воспоминаний.
Во сне все может привидеться: каждую ночь меня мучают кошмары войны, но на этот раз привиделась, да так явственно, до волосяных завитушек за ушами, моя автобусная попутчица, васильково смотрящая девушка. Она одиноко побежала к донской зеркально лоснящейся воде, приостановилась, потом тронула своими босоножками белый-белый песок. Во сне обычно не видишь себя, но я и себя видел, видел таким, каким я когда-то был, я глядел из своего, уже склоненного к закату полдня на окунутое в росу утро. Может, потому я спустился с увешанной сухожильями корней береговой кручи к песку, но на песок не ступил, корни опутали мои ноги, они всего меня опутали, связали крепкими узлами. Связанный по рукам и по ногам, я долго не выпускал из своих глаз дразнящего цветущими лопухами легкого штапельного платьица. Оно лопушилось у самой кромки песчаного берега, играло с набегающим ветерком. Видел я, как оно, приподнятое, упало к горящим медным пряжкам похожих на уздечки босоножек. Слышал я, как разбилось матовое стекло притихшей воды, ее брызги поднялись над васильково смотрящими глазами и радужно засияли, они, эти брызги, меня и разбудили, разбудили своей радугой. Приподнял положенную на рюкзак голову, стал соображать, что было сном и что было явью. Спускаться я никуда не спускался, корнями не опутывался, все это приснилось, что касается примеченной в автобусе девушки, я ее и вправду видел, видел одну, с низко опущенной головой, с опечаленными васильками. Правда, в воду она не бросалась, она и не купалась, ходила по берегу, ничуть не подозревая, что кто-то обратит внимание на ее легкое лопушистое платье.