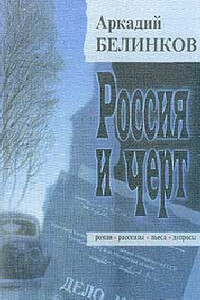Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша | страница 17
"От летящей разноцветной кучи шаров падала легкая воздушная тень, подобная тени облака. Просвечивал радужными веселыми красками, она скользнула по дорожке, усыпанной гравием, по клумбе, по статуе мальчика, сидящего верхом на гусе, и по гвардейцу, который заснул на часах. И от этого с лицом гвардейца произошли чудесные перемены. Сразу его нос стал синий, как у мертвеца, потом зеленый, как у фокусника, и наконец - красный, как у пьяницы. Так, меняя окраску, пересыпаются стеклышки в калейдоскопе".
Прекрасный этюд на тему "метаморфозы цвета". Но в роман (а не в записную книжку, в которую день за днем вносятся строчки) даже самый замечательный этюд может быть введен только с мотивировкой, по какой-либо сюжетной или композиционной, или иной необходимости. И тогда в дополнение к воздушным шарам вводится продавец. Однако в романах продавцы существуют вовсе не для того только, чтобы продавать, но и для того, чтобы развивать действие, воплощать определенные типы, характеризовать общественные отношения и для многих других надобностей. В связи с этим в своем романе Юрий Олеша создает сюжетную линию продавца воздушных шаров. С магистральным действием романа эта линия пересекается лишь в месте, оказавшемся чрезвычайно удобным для запуска эскадрильи сравнений, в кондитерской. Продавец оказался привязанным веревочкой к своим воздушным шарам и к записной книжке писателя.
Совершенно очевидно, что не всякая метафора может быть достаточно продуктивной, чтобы выволочь за собой целую сюжетную линию. Это по силам, конечно, далеко не всякой метафоре. Продуктивная метафора неминуемо должна иметь последствия, в ней дело не кончается только сходством. Она дает какое-то новое, третье значение, полученное из сложной комбинации двух предметов, обнаруживших родство. Чаще же метафоры Олеши поражают точностью зрительного сходства, и обычно за эти пределы не выходят. Обычно Олеша пишет так:
"Уже поднимался ветер... Расклейщик афиш никак не мог справиться с листом, приготовлен-ным для наклейки. Ветер рвал его из рук и бросал в лицо расклейщику. Издали казалось, что человек вытирает лицо белой салфеткой".
В дальнейшем ни расклейщик, ни афиша не развиваются. Все сказанное остается лишь описанием, композиционная роль его минимальна. Может показаться, что это писал называтель вещей, все искусство которого направлено к краске.
Впрочем, иногда метафора оказывается более продуктивной. (Я, разумеется, говорю не о достоинствах метафоры, а о ее намерении и роли. Метафора, которую я сейчас покажу, несомнен-но менее выразительна, чем предшествующая, в которой переданы ветер, погода, движения листа афиши, взаимоотношения человека и вещи.)