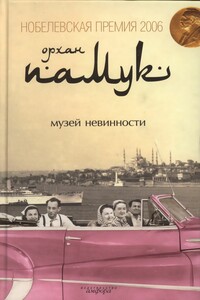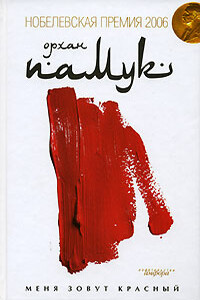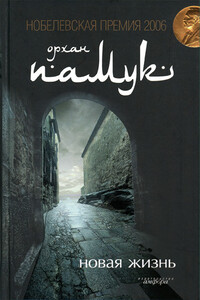Белая крепость | страница 41
Однажды, когда Ходжа изрядно измучил меня, я заметил в его глазах жалость. Скверное это было чувство, смешанное с презрением к человеку, которого он не соглашался признать равным себе, – я понимал это еще и потому, что теперь он мог смотреть на меня без отвращения.
«Не будем больше ничего писать, – сказал он и сразу поправился: – Я не хочу, чтобы ты писал».
И то правда, уже несколько недель он только наблюдал за мной, пока я описывал свои пороки. Потом Ходжа объявил, что нам надо выбраться из дома, в котором с каждым днем становится все тоскливее, и съездить куда-нибудь – да вот хоть в Гебзе. Он снова вернется к астрономическим наблюдениям, и хорошо бы написать новый, более обстоятельный трактат о жизни муравьев. Я испугался, увидев, что он вот-вот потеряет остатки уважения ко мне, и, чтобы поддержать его любопытство, придумал новую историю, выставляющую меня в самом неприглядном свете. Жадно и с удовольствием прочитав написанное, Ходжа даже не рассердился; я только чувствовал, что ему любопытно, как это мне удается мириться с таким своим несовершенством. Наверное, в тот момент он был согласен всегда оставаться самим собой. Конечно же, он понимал и то, что во всем этом есть доля игры. В тот день я разговаривал с ним как придворный шут, знающий, что его не считают за человека; старался сильнее разжечь постепенно растущее любопытство хозяина: ну что он потеряет, если до отъезда в Гебзе последний раз напишет о себе и о своих недостатках, чтобы понять, как я могу быть плохим? К тому же совершенно не обязательно, чтобы написанное было правдой или чтобы кто-то ему поверил. Если он сделает это, то поймет, каково это – быть подобным мне человеком, и когда-нибудь это знание может ему пригодиться. В конце концов Ходжа поддался любопытству и моим уговорам и сказал, что на следующий день попробует, – не забыв, разумеется, прибавить, что сделает это не потому, что купился на мои глупые уловки, а потому, что сам так хочет.
Следующий день был самым веселым из всех проведенных мной в рабстве. Ходжа не стал привязывать меня к стулу, но я все равно до самого вечера просидел напротив него, чтобы не упустить увлекательное зрелище того, как Ходжа потихоньку становится другим человеком. Ему так не терпелось приступить к работе, что он даже не стал выводить вверху страницы свое смешное заглавие «Почему я – это я». Он походил на маленького мальчика, придумывающего безобидную ложь и уверенного, что ему ничего за это не будет; поглядывая на него краем глаза, я видел, что он все еще чувствует себя в безопасности. Но эта напрасная уверенность продлилась недолго, да и наигранно-виноватое выражение, явно рассчитанное на то, чтобы я его заметил, исчезло с лица Ходжи довольно быстро. Вскоре насмешка сменилась беспокойством, а игра превратилась в реальность; просто удивительно, как пугала Ходжу перспектива обвинить себя хоть в чем-то – даже в невинной, маленькой лжи, даже не всерьез! Он быстро зачеркнул написанное, не дав мне ничего прочитать. Но любопытство не отпускало, к тому же, думаю, ему было стыдно передо мной, так что он продолжил писать. А ведь если бы он поддался первому порыву и встал из-за стола, то мог бы спастись, сохранив душевное спокойствие.