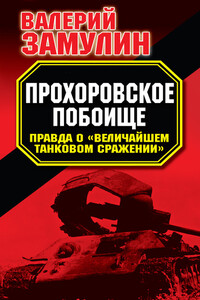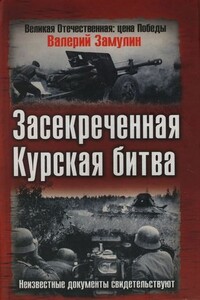Курский излом | страница 53
3. Выс. 228, 6: одно минное поле, на северных скатах высоты были заминированы траншеи, блиндажи, бомбоубежища на направлении Томаровка — Быковка. Всего было установлено 2 прибора ФТД с 40 фугасами и 21 ОЗМ‑152.
4. Село Каменный Лог: три минных поля, перекрывающих танкопроходимую местность: Лог Каменный, роща, что юго–восточнее Лога Каменного, на направлении Томаровка — Быковка. В этом районе было установлено 8 приборов с 19 фугасами и 47 ОЗМ‑152.
5. Села Шишино — Беломестная: заминированы три моста на дороге Шишино — ст. Беломестная, из них один мост через р. Сев. Донец. Всего было установлено 5 приборов ФТД с пятью фугасами. Каждый район обслуживался специальной командой, состоящей из 31 человека. Расчет команды состоял из 4 телефонистов, 5 радистов, 3 наблюдателей, 18 сапер–радистов и начальника команды»{68}.
Работа саперов была не только физически тяжелая, даже изнурительная, но и очень опасная. Минировать приходилось на нейтральной полосе перед передним краем противника без освещения, соблюдая и профессиональную аккуратность, и очень тихо. За ночь саперной роте в среднем удавалось поставить 100–150 мин, иногда даже 250. Но нередко были ночи, когда немцы вообще не давали работать. И тогда приходилось пережидать.
Слабой стороной всех мин была их низкая живучесть. При обстреле заминированной территории или попадании на нее бомб происходила их детонация. Прокладывание коридоров в минных полях при помощи пикирующих бомбардировщиков было отмечено в первые два дня наступления. На Курской дуге, в частности в полосе 4‑й ТА. Но затем немцы отказались от него. Во–первых, к этому моменту они уже прошли главную полосу и действовали на второй, где сплошного минирования не было. Во–вторых, это отвлекало авиацию от ударов по более важным и укрепленным опорным пунктам нашей обороны, которые без ударов с воздуха уничтожить было труднее. И, в-третьих, чтобы все мины сдетонировали, требовалось использовать значительное число боеприпасов.
Кроме того, у советских противотанковых мин, таких как [79] ЯМ‑5, был серьезный недостаток — они обладали малой мощностью. При подрыве танка наносился ущерб лишь его ходовой части, причем незначительный, а корпус боевой машины оставался невредимым. При наличии у противника хорошо отлаженной системы ремонта эти боевые машины быстро вводились в строй. Зная эту особенность, на некоторых ответственных участках главной полосы в одну лунку ставили сразу две мины или мину усиливали крупнокалиберным снарядом, чтобы при подрыве силу ударной волны увеличить в два–три раза. Но так минировались незначительные участки и только главной полосы, создавать «двойные» минные поля не было возможности. Поэтому командование фронта уже в первые дни летних боев, оценив ситуацию, потребовало от войск обязательно расстреливать вражеские танки до их воспламенения. Значительная часть танков комплектовалась дымовыми шашками, а в начале наступления их имели все экипажи, поэтому, если танк был обездвижен в ходе атаки, танкисты быстро выбрасывали имитационную шашку в район моторного отделения или просто под днище, и наши артиллерийские расчеты в первое время это вводило в заблуждение. Кстати, этим приемом пользовались широко и наши танкисты, но в основном при налете немецких штурмовиков и истребителей танков.