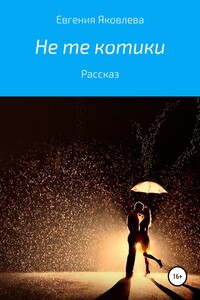За туманом | страница 33
Лежавшего в горячке простудившегося старика пожалели и коня сактировали. Конина досталась собакам.
Болел дядя Гриша долго и тяжело. Было время, собирались отправлять его в горбольницу, заказав спецрейсом вертолёт. Но старый возчик всё же поднялся. Как только силы стали возвращаться к Ражному, он сразу же стал потихоньку навещать и обихаживать Трезора. И однажды, сидя на планёрке, мы услышали визг полозьев, разбойничий посвист конюха и его хриплый возглас:
— Горыныч, курва!
Анатолий Гаврилович устало улыбнулся.
— Ну, вот! Слава Богу, дядя Гриша поправился. Значит, с планом мы справимся…
Иногда в редкие свободные вечера, навещал Толик. В Кривую Падь он приехал, как и все, по оргнабору, женился, осел… Тихий алкоголик, лирик в душе, Ременюк увлекался поэзией восемнадцатого века. Всё, что было по этому вопросу в поселковой библиотеке, изучил досконально. Книги назад не возвращал, упрямо платил штрафы, якобы, за утерю.
В подпитии он мог рыдать над томиком Княжнина, пытался заучивать наизусть оды Державина и Ломоносова. Допытывался, кто мне больше нравится: Пушкин или Тредиаковский? Я, стесняясь своей серости, увиливал от ответа и пичкал его стихами современников: Вознесенского, Ахмадулиной, Евтушенко.
Толик всегда долго топал на крыльце, околачивая снег с валенок. Вежливо стучался и, поздоровавшись, садился на табурет у входа. На предложение раздеться, говорил, что на минутку, снимал только шапку. Сидел подолгу… Курил, пуская дым в открытую дверку печурки. Говорил мало, скупыми фразами.
По его просьбе, я доставал заветную тетрадку и читал:
На вдохновенном рябом лице дизелиста плясали отблески пылавшего в печке огня. За окном завывала пурга. Единственная под потолком лампочка мигала, угрожая погаснуть совсем. Океан вздыхал и слушал наши беседы.
Иногда Толик, запинаясь, вдохновенно читал, водя заскорузлым пальцем по вырванному из тетрадки младшей дочери листку что-нибудь из Княжнина или Максимовича:
А то забегал Фокказ Гиндуллин. Приглашал к себе: