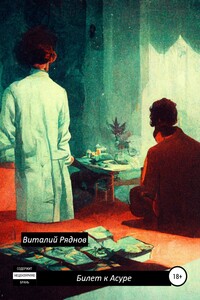Счастливый день в Италии | страница 43
Из душного зала Дора вышла на такую же душную маленькую площадь. Решение суда ее разочаровало. Она была еще слишком молоденькая для того, чтобы понимать, как это много — пять лет. Рядом шел Коля, развернувшись бочком так, чтобы заслонить от нее трех растерянных женщин — по всей вероятности, тех самых жен директора, которые ходили в детдом за мукой. Они что–то робко выговаривали Доре вслед и указывали на своих напуганных детей. Зародыш знал, что Дора их все–таки заметила — и что эти смуглые неяркие лица, эти широкие черные платья с радужными вертикальными полосами будут следовать за Дорой по жизни так же, как обломки парохода, как толпа, напирающая на запертую дверь ее вагона, как отданная за надкушенный хлеб фотография… И все–таки, все–таки считал ее жесткой, нечуткой. Не верил говорящему взгляду Мики, у которого за любой фразой, за любым словом, обращенным к сестре, скрывалась вечная, главная мысль: «Ты все прекрасно понимаешь, ты только зачем–то хочешь казаться такой…»
Почему Дора всю жизнь стремилась противостоять этому взгляду? Что хотела доказать, от чего защищалась? Почему неизменно отвечала притворной непроницаемой ясностью? Конечно же, притворной. Пускай не все, но многое она действительно понимала. Понимала, когда на праздничном летнем вокзале забирала у Мики Лизочку, обеими ручками обнимающую его за шею… Понимала его скромную невысказанную мольбу: «Может, все–таки не посылать ребенка с Бронеком?» И виноватое заверение: «Ты не думай, тебя она любит больше!» И это вечное: «Не волнуйся, ты же знаешь, что я не заразный…»
А уж тогда, когда нашла брата в Ташкенте, в грязной больничной палате — она и сама заговорила глазами не хуже, чем Мики.
Это произошло через несколько месяцев после того, как длинный Дорин поезд прибыл, наконец, к месту назначения и распался на отдельные детдома. И они с верным Николаем остались при своих ста одиннадцати, каждого из которых знали по имени и в лицо, и чем он переболел, и чего от него можно ждать. Сто одиннадцать — было уже почти по силам, почти нормально. Главное — небо не грозило больше бомбежкой, а вместо тяжко вихляющего пола, вместо ревматически лязгающего металла под ногами была твердая и глухая земля. И лишь телу, привыкшему удерживать равновесие, ногам, привыкшим перепрыгивать несущуюся навстречу пустоту, было странно и неловко приспосабливаться к наступившему покою. Да еще пространство вокруг казалось излишним — того и гляди унесет куда–то вбок.