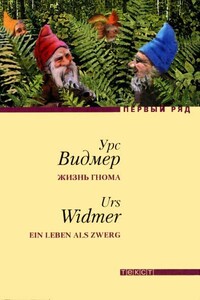Зяблицев, художник | страница 33
Сердце Зяблицева забилось — он почувствовал, постиг, что существует в соседстве с тайной, захватывающей и еще неведомой для него; с тайной, которая взялась вроде бы из ничего, из пустяка, но разрослась и стала явной; и он — непостижимо, — бывший всему этому причиной, теперь может наблюдать, лицезреть бытие этой тайны — прямо здесь, в квартире, под боком!..
То, что он сможет, перейдя из кухни в комнату, действительно, наяву увидеть это, представилось ему невероятным. На цыпочках он подкрался и выглянул из–за косяка. Невеста сидела в прежней, ничуть не изменившейся позе, и только по тому, как поднималась грудь, было видно, что она дышит. У Зяблицева перехватило дыхание, опять, уже яростнее, непреодолимо зачесались руки урвать, украсть эту сцену на любой подвернувшийся клочок бумаги, и так, будто приколоть к листу навечно, присвоить, остановить — чтобы никуда не делась и была всегда.
Желание оказалось столь властным, что Зяблицев не посмел бороться с ним в одиночку, а, перебежав комнату, сел рядом с невестой — вернее с этим — и тронул за имевшееся женское плечо. Она вздрогнула, вернувшись из непостижимой дали зреющего материнства. Но он, оказавшись здесь первым, что она увидела, смотрел ей в глаза так, что она снова, от непонимания и испуга, вздрогнула и воскликнула: «Что ты?!.»
«Ничего, ничего!» — поспешно пробормотал Зяблицев и, боясь, что сорвется и выдаст не только свои намерения, но и бросится их претворять — то есть искать по комнате карандаш и бумагу — и начнет, не обращая внимания на ее протесты, не слыша их, рисовать ее — словно насиловать, — обнял ее, притянул за плечи и принялся осьпать поцелуями.
«Что с тобой, что с тобой такое?! — тихо, ошалело шептала она, — ты, что ли, любишь меня, любишь?»
«Да, да, конечно, конечно!..» — автоматически отвечал он, зарываясь лицом в ее волосы, чувствуя губами вкус ее кожи, утыкаясь в нее, и в этом тупике, за закрытыми веками, видя лишь то, как она сидит на диване, расставив ноги, устремив помутневшие глаза в одну точку, забыв блюсти всякое изящество, якобы свойственное женщинам, попав в плен своей изначальной, допотопной природы родильницы. Он еще не зрел подобного в такой близи!..
С этого момента мечта, замысел нарисовать — нет, написать красками, в большом формате, в натуральную величину, как полагается, свою беременную жену, засела в его голове и завладела всем его существом. Он ходил на завод и продолжал там «создавать» портреты работяг, перерисовал весь цех, «создал» не только галерею передовиков, но и всех отстающих, бракоделов, прогульщиков, добрался до мастера, и чем больше возникало и расходилось по чужим рукам этих рисунков, тем желание сесть против собственной невесты с мольбертом и набором углей и кистей становилось сильнее. У него было чувство, будто он продирается сквозь льющуюся неослабным потоком толпу к одному–единственному, видимому поверх голов знакомому лицу и никак не может улучить просвета и мига, чтобы до него добраться. Но именно от силы этой необходимости и чувствуя то, сколь важно и сладостно это будет ему, он больше не обращался к женщине с просьбой попозировать — страшась получить новый отказ. Он ждал момента, ждал свадьбы, дня официальной регистрации, надеясь, что тогда, хотя бы во имя соблюдения ритуала, она не посмеет отказать. Он ждал этого мига с тем же вожделением, с каким иные ждут брачной ночи.