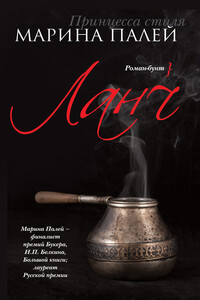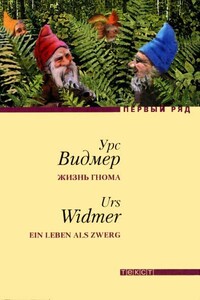Зяблицев, художник | страница 30
Зяблицев же был простым исполнителем их девичьих замыслов и воли — угрюмым, неспрашивающим и молчаливым. В иные минуты он, правда, испытывал острейшее отвращение к тому, что рисовал на большом листе его карандаш, — какого–нибудь передового рабочего- комсомольца с ясным взглядом или старого мастера, строго и вместе с тем внимательно глядящего поверх защитных очков, предполагалось — на юную смену.
Между этими изображениями и тем разношерстным живым людом, с лицами, где читалось многолетнее пьянство, заботы, усталость, бесшабашность, прижимистость, жестокость, резкость, своеволие, готовность принять все и выполнить любой приказ начальства, страсти, знание своей выгоды, понимание собственных прав и достоинств, чувство хозяина жизни, — теми лицами, которые он наблюдал ежедневно и в таком изобилии впервые за свою жизнь, лежала пропасть, не меньшая, чем между обнаженным телом и жалкой сортирной порнографией. Однако он был вынужден рисовать все это и рисовал — это была его нынешняя официальная работа, за нее ему платили. По временам у него возникало чувство, будто он поместил себя в заколдованный и порочный круг, не имеющий ничего общего как с его, Зяблицева, собственной жизнью, так и со всей жизнью, и желание вырваться на волю делалось непреодолимым. Но, поборовшись с собой, с этим желанием, и напомнив себе, для чего все это делается, он в душе даже хвалил себя за то, что устроился именно на такую работу, — по новым законам он не имел права уволиться раньше, чем через два месяца после подачи заявления, а это уже так или иначе означало почти шестимесячный возраст будущего ребенка, и к тому же он намеревался подать заявление совершенно другого рода. И существовало еще одно заявление, лежащее в загсе, и вылеживаться ему до зрелости предстояло еще по меньшей мере месяц. И на работе, и дома, то есть у невесты, Зяблицева держали взятые на себя обязательства, и потому, пересиливая себя и блюдя их, на работе он только исполнял поручения других людей, а свою прежнюю квартиру и мастерскую в полуподвале не посещал вовсе. Если отчуждение, так полное, думал он и крепился.
А вскоре он нашел себе отдушину. На работе во время обеденного перерыва он стал садиться с «мужиками» ближайшего цеха за домино, быстро проигрывал и, отодвинувшись в сторону, на каких–ни- будь клочках зарисовывал продолжавших игру, а затем «для развлекухи» показывал свои наброски. Пожилые рабочие и пареньки, еще не служившие в армии, изумлялись и радовались, как дети. Узнавая на рисунках себя и друг друга, гоготали, тыкали в изображение и оригинал пальцами, хлопали Зяблицева по плечу, называли его Шишкиным и Репиным и просили рисунки себе на память. Зяблицев с охотой отдавал, уверяя себя, что никогда не стал бы делать таких вещей специально, что делает их только потому, что ему, выбывшему из игры, нечем занять руки, а сидеть просто так неохота. Кончилось тем, что рабочие, которые имели лишь фотокарточки вроде армейских, свадебных или курортно–отпускных и даже не помышляли иметь свой портрет, выполненный художником, стали просить Зяблицева рисовать их по отдельности и даже занимали очередь. Зяблицев не заставлял себя упрашивать. Иногда целые перерывы проходили без домино и шашек. И тогда Зяблицев, заключив с каким–нибудь спорщиком пари на бутылку, успевал сделать портреты всех членов бригады, тратя на каждый от двух до пяти минут. Рисунки рвали из рук, и потому с работы Зяблицев возвращался, никогда не имея при себе ни одного из результатов своего неожиданного промысла и развлечения — пустой, но куда менее угрюмый, а порою прямо–таки веселый. Его забавляло то, как он без всякого намерения, незаметно стал «певцом» рабочего класса и что его искусство так вдруг потребовалось народу. Тем не менее он не думал, что вновь начал творить, что снова стал художником, каковым был или полагал себя прежде. Он надеялся, что по–настоящему начнет Творить, если начнет, только когда попадет туда, куда наметил попасть, когда собственными глазами и ценой жизни увидит и узнает все т о, и с увиденным вернется. Там он, конечно, тоже будет делать наброски с рабочих, но это будут уже подготовительные наброски, он никому не станет их дарить, будет беречь пуще глаза; да и лица тех людей будут совершенно иные, какие — и гадать не стоит!