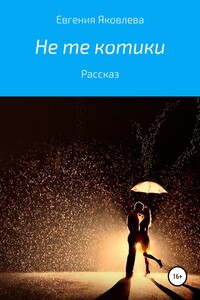Рай давно перенаселен | страница 55
Фотография с какого–то заводского застолья. Ей лет сорок пять: в толпе танцующих фотограф навел резкость на нее одну — опасный эксперимент. Полные, очень белые руки, стиснувшие голову, искаженное гримасой отчаяния лицо состарившейся нимфы…
Декольте, туфельки на каблуках, вельветовая юбочка. Партконференция, вакуум–аспирация, уксусная эссенция. Воодушевление, разочарование, депрессия. Водка, тазепам, сигареты. Ранний климакс, дряблая кожа шеи, одиночество. Вот и все, нехитрая женская программа выполнена. Что дальше? Все. Все?! Ну да, а ты чего хотела? Еще осталась пенсия со своим типовым набором: варикоз, остеохондроз… метампсихоз. Старость не приносит ни мудрости, ни умиротворения, лишь ядовитую зависть по отношению к тем, кто молод и еще может прожить свою жизнь как–то иначе. Вот только как это — иначе? Об этом в сентиментальных книжках и фильмах ничего не сказано, а государственные бонзы, точно попугаи, перенимают один у другого заученные песенки.
Под поезд бросаются только в романах. В жизни ты продолжаешь все это, даже если тебя давно нет. «Кончена жизнь», — говорит мать, с ненавистью глядя на нас, дочерей. Мы с сестрой поедали, как гусеницы, зеленый листок, ее единственную жизнь. Мы не были в этом виноваты. Фатальные враги (или друзья по несчастью), спутницы по навязанному кем–то безрадостному маршруту.
В одно из тех редких мгновений, когда она не молчала, сжав губы, и не кричала, в одно из тех, повторяю, крайне редких мгновений она призналась мне: в школе, в эвакуации, ее главным страхом был гардероб. Не война, которая шла где–то далеко, а закуток со множеством железных крюков, где она постоянно что–нибудь теряла: то голубой шарфик, то варежки (за что бывала нещадно бита своей матерью). Догадывалась ли она, что эти потери были лишь предвестниками грядущих утрат? Кто–то носил голубую утреннюю тень ее последнего довоенного лета, донашивал узорчатые варежки, и она замирала от нехороших предчувствий: если этот дьявольский ветер потерь станет дуть непрерывно, что останется от нее? У нее есть тело, но принадлежит ли оно ей? О душе и вовсе говорить не приходилось, у души обнаружилось вдруг множество хозяев, начиная от гипсового болвана в пионерской комнате до учителей, комсоргов, партогов, которые нахально черпали шеломами неисчислимой рати ту живую сверкающую среду, в которой ее душа резвилась, словно маленькая рыбка, словно будущий ребенок в околоплодной жидкости, — ее время. Ее прошибал пот от мысли, что в толкучке и тесноте гардероба кто–то по ошибке заберет ее пальто, и ей придется влезть в чужую вещь, как будто вместе с одеждой ей могут подменить судьбу и выдадут не ту, которая ей предназначена. Она будет жить чужой жизнью и сама не будет понимать, что с ней не так. Этот навязчивый страх вернулся через несколько лет, в техникуме: она панически боялась перепутать свое пальто с таким же самым ее сокурсницы Иры по прозвищу Ириска, дочери продавщицы из продмага. Некрасивую девочку с ее судьбой, торчащей за плечами, словно горб, она не раз видела в магазине, где та помогала своей матери.