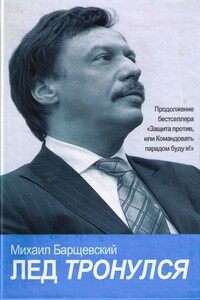Путешествие | страница 7
Как же быстро и противоречиво изменяются наши намерения, стремления и притязания. Еще минуту назад я думал, как увернуться, если бы моему товарищу по путешествию пришло желание пооткровенничать. Теперь, наоборот, я думал, как бы вызвать его на откровенность.
Сверх ожидания это оказалось нетрудно. Конечно, и граппа стала моим союзником.
А когда мы вышли на вокзале в Венеции, где ему надо было пересесть в венский спальный вагон, а мне, как я и собирался, остаться еще на два дня, он держал меня на перроне за пуговицу и говорил, объяснял, рассказывал без умолку еще долго после отхода венского поезда. При этом он не только не начал рассказ о своем путешествии, но едва выкарабкивался из воспоминаний детства….
Когда наконец я обратил его внимание на то, что венский поезд давно ушел, он беспечно махнул рукой и ответил сентенциозно:
— И этот и все другие. Зачем принимать все так близко к сердцу? Я остаюсь с вами. Разве Венеция не для того только и существует, чтобы неудачливые пилигримы могли рассказывать друг другу шепотом под луной историю обманутых надежд? Ха–ха–ха! Пойдемте в гондолу, Санта — Лючия! Ни эти каналы, ни эти дворцы не слышали еще такой печальной исповеди, не видели такого трагического влюбленного! Ха–ха! Вперед, гондольер!
Проклятая Венеция. Все в мире развивается и изменяется. Только она одна испокон века все та же, все такая же. Проклятая красота, вознесенная таким простым и дьявольским фокусом над всеми временами. Город, которому нет уже никакого оправдания перед миром и который все еще терзает ужасными пытками, каких не выдумал бы самый жестокий дож, всех тех, кто бежит, задыхаясь, за вечно ускользающей из рук тоской. Город, который глупым влюбленным коварно дарит минуты величайшего счастья, чтобы еще сильнее ударить одного из них или обоих в минуту поражения. Который господь бог не должен был бы показывать людям. Который будит высшие порывы самых сокровенных переживаний и требует вслушиваться в чужие.
Говорят, с каждым годом Венеция опускается на несколько сантиметров и ей грозит гибель.
Пусть скорее поглотит ее море!
Часть вторая
Семь происшествий
Генрик Шаляй — мой случайный знакомый из вагона–ресторана — считал, что семь происшествий между пятым и двадцатым годами его жизни оказали решающее влияние на формирование его характера и склонностей. А значит, и на всю его судьбу.
Характер и склонности, уже сформировавшиеся, порождают адскую жизненную силу, с которой тщетно пытается бороться наше беспристрастное сознание, или то, что мы привыкли называть рассудком.