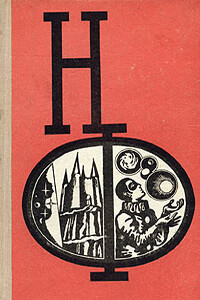Somnambulo | страница 24
Откуда–то возникали рельефные изображения южных улиц. Они разрастались, срастались в одно, и вот уже это были знакомые усы, которые пошло улыбались и говорили — «назовите эту букву…» Нет, это усы таракана, бегущего по светлой пластмассовой степи. Он бежит, смешно подскакивая, у него на лапках модные туфли из натуральной кожи, у него в зубах трубка, и эта трубка угрожает своим дымом Императору. Нет, не курительная трубка — это горит здание, а вокруг него странные машины, они похожи на слонов, но их хоботы плюются огнем и дымом. Они топчутся и хотят разрушить это здание, другие здания и даже далекие горы, которые, там, где плавится солнце. Но там ничего нет, кроме льда и спящих на снегу черных людей.
Крики горцев, что были по ту сторону реальности, превращались в одно сплошное жужжание. Это жужжала муха. Она была многоголовая, у нее было бессчетное количество голов, и все они разговаривали на тарабарском языке. Муха ползла и ползла, ее омерзительное брюхо подмяло под себя всю страну. Вот она вьется около лица, так и хочет на него сесть, вспрыснуть свой безнадежный яд. Как противно карабкается она, гадливо перебирая мохнатыми лапками, по липкому телу. Ее лапки — ноги толстяка. Он голый, этот толстяк, он голышом пляшет на откидном столике. У него женские ягодицы и женская грудь, а вместо члена зияет влагалище. Он поет похабные песни о проститутке-Отчизне и импотенте-Императоре, дрыгает жирными ногами и хватает себя руками за зад. Он смеется, показывает длинный слюнявый язык, и на широком конце его двухголовая курица держит в когтях отрубленные головы. Головы мертвы, с них мерно падает черная кровь…
Вокруг сидели тысячи человек в строгих черных костюмах. Сидели за столами — нет, это не столы, это нижняя часть их туловища. Эти чудовища макали перья, выщипанные их заботливыми пальцами из государственной курицы, макали их в черную кровь и писали, выводя затейливые узоры на меловой бумаге. Они писали магические слова: Запретить, Рассмотреть, Разрешить, Допустить, Предоставить. Так они писали, а другой рукой они прикрывали волчьи лица, потому что тихонько смеялись лживым лисьим смехом, и со змеиных языков капал самогонный спирт…
Все кружилось и танцевало в мареве. Это марево имело древние и освященные веками и войнами, границы. Это топкое марево как–то называлось, но название растягивалось в стороны и превращалось в тонко сипящее «у–у–ус-с-сь»…
Возникали из марева мрачные физиономии. Они были горды и жестоки. Их монголоидные глаза требовали всеобщего преклонения и страха. Головы росли, словно на дрожжах, — дрожжами им служила непролазная грязь сельских дорог. Головы поднимались, пускали корни ловких рук, сосали ими красный сок этой земли, и от этого сока они колосились, вырастали словно дубы. Листва их — погоны и орденские планки, плоды их были гнилыми и горькими как цикута. Головы были разные: кто в короне, кто в кепке, кто в странной папахе, кто в фуражке с топорами и машинным крылом. Но все они были на одно лицо, одинаково хищные. Вот они жрут друг друга, вот обкусывают руки и ноги, сплевывая кисти и пятки, а самый проворный косит поверх, и летят головы. Жуткий лес становится ровным пустынным полем, средь которого курганы из ржавых касок и забытых наград…