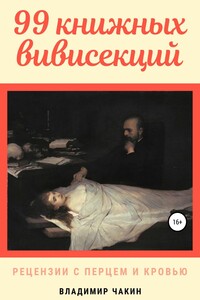Плач по концепту | страница 6
Одним словом, цитируя «Всемирную историю» Мела Брукса: «Мило, не так чтобы очень, но мило». Что же есть такого в «Сказках по телефону», что заставляет предпочесть эту книгу тысячам других, дожидающихся своей очереди на полках? На мой взгляд — то основное, что приближает литературу о повседневной жизни к высокому мифу, выявляя некие глобальные и всеобщие тенденции мироздания, вычленяя мировую константу из частной и обыкновенной истории — архетип. Он апеллирует не столько к нашему частному, цивилизованному и образованному «Я», сколько к темному, посконно-сермяжному, чующему нюхом правду бытия, коллективному бессознательному, к чему-то глубоко и временами справедливо задавленному в казематах души. Литературный миф прикрывается романтическим флером, но он же, лежащий в основе архетипа — правда мира, а всегда ли мы к ней стремимся? Куда легче жить в здании, когда не знаешь, как, из чего и на чьих костях оно построено.
Я вполне могу предположить, что это архетипический компонент «Сказок по телефону» появился не по воле автора и, возможно, существует только в моей собственной трактовке, но все же изложу свои аргументы. Речь идет не только о несколько более инфантильном, чем все остальные, молодом человеке, предпочитающем идеализированный вербальный контакт с действительностью (в лице женщин) — плотскому и натуралистическому. Это скорее история рассказчика, нарратора, писателя, да, наконец, любого творца, настолько погруженного в создание собственной реальности (или эстетическое перестраивание существующей), что он просто не в состоянии штатно контактировать с окружающей средой. Если же, в силу слабости характера (все мы человеки), он откликнется на властный зов реальности и спустится со своей башни слоновой кости, то обречет себя лишь на скорую гибель. И это еще лучший из всех возможных вариантов — ибо физическая смерть для него предпочтительнее, чем неизбежная в противном случае утрата себя. Рандеву с действительностью равноценно для художника вечерним прогулкам по берегам Гримпенской трясины. Последствия, во всяком случае, одинаковы. Все, что ему остается — пребывать в одиночестве и идеализировать любимый образ на расстоянии.
В этой трактовке соответствующим образом трансформируется и облик возлюбленной. Она олицетворяет собой нынешнюю российскую жизнь. Отец — неизвестен, то ли спился, то ли сел. Мать — уродливая и брутальная, как Калибан, поглощена безудержно-бессмыссленным, животным накопительством. Друг семьи, концентрированный образ эдакого по-своему совестливого олигарха — скорее паж-оруженосец, чем рыцарь прекрасной дамы, более лакей, нежели любовник. Вокруг нее — никого, не люди, а служебные функции, обслуга, массовка, статисты со словами «Кушать подано!». Жить в этих декорациях отвратительно, а вне их нет никакой жизни вообще, во всяком случае, она себе представить эту жизнь не может. Незаметно для самой героини ее существование определяется действующей в обществе этикой насекомых с присущим ей перманентным и основополагающим каннибализмом. Поэтому чудесное появление героя, ищущего благодарного слушателя своих телефонных поэм, воспринимается как явление вызволителя на белом коне.