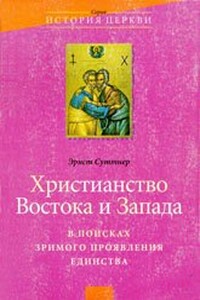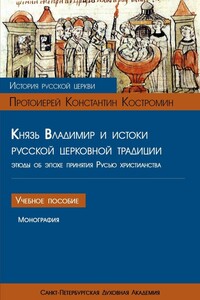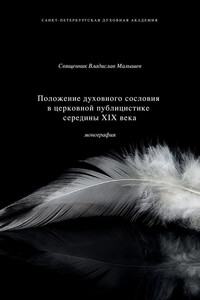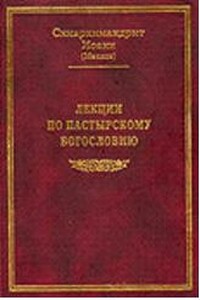Апокалиптика и социализм | страница 26
Проблема Апокалипсиса вообще принадлежит к числу таких, которые привлекали к себе внимание во все эпохи. Здесь не место останавливаться на истории экзегетики Апокалипсиса[61], в которой очень рано уже определились два основных русла: чувственно-историческое понимание Апокалипсиса (примерно уже с Монтана) и спиритуалистическое (родоначальником его был африканский епископ Тиконий, IV века). Изучаемый как литературный памятник своей эпохи (а этим для большинства теперешних протестантских ученых[62] теперь почти и исчерпывается значение его), он подвергается воздействию различных реактивов, обычно применяемых в исторической критике: диссекциям, анализу сравнительно-историческому, филологическому и т. д. Подвести какой-нибудь общий итог всему пестрому многообразию научных мнений нет ни возможности, ни необходимости, тем более, что знакомство с историей вопроса убеждает, как мало действительно прочных научных заключений и как много самых шатких, субъективных и предвзятых взглядов сюда привносится. Никоим образом нельзя отрицать научного значения этих исследований в их собственной области, если они не переходят за ее пределы в своих заключениях. В научном изучении Апокалипсиса ранее всего обнаруживается стремление понять его отдельные черты из обстоятельств и событий времени его написания (Zeitgeschichte). При всяком отношении к Апокалипсису такое изучение сохраняет свое значение, содействуя уразумению по крайней мере одного (а для многих и единственного) из возможных значений его текста. Затем выступает литературная критика, стремящаяся определить первоначальные источники (иудейские или христианские) Апокалипсиса, его составление, тенденцию автора, причем отсутствие точного литературного критерия, конечно, заменяется субъективным глазомером. Это - работа того же типа, подобная которой производится филологами над Гомером, Платоном, новозаветными авторами[63]. Этот метод сулит мало положительных результатов и нередко дает место критическим увлечениям почти спортивного характера. В новейшее время по почину Гункеля[64] и Буссе[65] прошумел религиозно-исторический метод[66], ищущий в апокалиптических образах древние мифы старых религий. Поиски религиозных традиций и аналогий, изучение религиозного синкретизма представляют собой в настоящее время самое модное занятие, также превращающееся иногда в научный спорт[67].
Задачей экзегетики и исторической критики остается при помощи разных реактивов изучать Апокалипсис как исторический памятник со стороны обстоятельств его происхождения, его поводов, литературной композиции, языка, грамматики и синтаксиса и т. д. Однако, по нашему убеждению, каковы бы ни были изменчивые и постоянно колеблющиеся результаты этого исторического изучения Апокалипсиса (так же, как и других священных книг), не оно, но общие религиозные предпосылки положительного или отрицательного содержания установляют окончательную оценку и отношение к данному произведению. Исторические обстоятельства происхождения памятника, те трость и чернила, которыми он написан, вовсе еще не предопределяют ценность того, что записано, и в данной исторической оболочке, под данным феноменом слова может скрываться содержание непреходящего, нуменального значения, не человеческое, но благодатное, божественное вдохновение