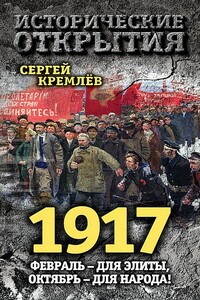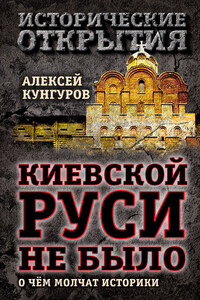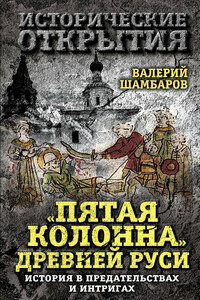«Пятая колонна» Российской империи. От масонов до революционеров | страница 66
Гнойник восьмой
Зараза и зараженные
Внешние враги у нашей страны были всегда. Во все времена они старались использовать внутреннюю оппозицию. Но… в прежние времена им почему-то не удавалось взорвать Российскую империю, одурманить и взбесить многомиллионный народ. А в 1917 г. удалось. Почему? Только из-за того, что на подрывные операции были пущены колоссальные деньги, западные спецслужбы усовершенствовали технологии политических диверсий, революционерам помогали опытные режиссеры? Нет. Сами по себе они не смогли бы обрушить такую державу. Но дело в том, что к началу трагических переломных событий Россия уже оказалась тяжело больной.
Гибельная хворь развивалась и подтачивала страну постепенно, в течение двух столетий. Вольнодумство, «свободные» нравы, разврат, теории атеизма и либерализма. В первую очередь ими заражались аристократия, дворянство, интеллигенция. Они привыкали ориентироваться на Европу, зарубежные взгляды и оценки становились образцами для подражания, воспринимались как «общепризнанные». Масоны всегда прятались за лозунгами «просвещения», и главным инструментом заражения России оказались не тайные кружки и организации. Нет, таким инструментом стала система образования! Государственная, официальная. Но в XIX в. она стала по своей сути западнической. За основу брались все те же европейские стандарты и теории — и наряду с гуманитарными, техническими науками интеллигенция получала иные «добавки». Проникалась комплексами «национальной неполноценности», привыкала считать зарубежное «передовым», а свое, родное — «отсталым». Необходимость кардинальных реформ по чужеземным образцам даже не обсуждалась, виделась прописной истиной.
Вовсе не случайно очагом и рассадником либерального духа становилась профессорско-преподавательская среда. Она пополняла образование в германских, французских, британских университетах. Набиралась там «передовых» учений. А дальше сеяла импортные семена в душах молодежи. Эти семена соединялись с обычным юным фрондерством и давали буйные всходы. Соблазны «свобод» кружили головы похлеще вина. Очернительство власти, законов, традиций становилось признаком хорошего тона. Внедрилось деление всех явлений на «прогрессивные» и «реакционные». Причем революционное, разрушительное относилось к «прогрессивному». А все, что служило стабилизации государства, получалось «реакционным».
Студенты, проникнувшись подобными идеями, становились учителями — и несли их ученикам. В 1870-х годах кружки народников сунулись было открыто «будить народ». Но агитаторы ничего не добились, они были для русских людей чужеродными смутьянами. Их без долгих разговоров вязали и сдавали властям. Зато в сельскую земскую школу приезжал не агитатор. Приезжал учитель, начитавшийся атеистических бестселлеров Ренана, восторгавшийся «Великой французской революцией». Он выглядел для ребят куда более авторитетным и знающим, чем родители, чем скромный деревенский священник. Такие же учителя приходили в рабочие вечерние школы…