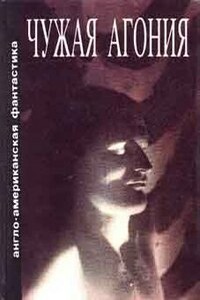Второе зрение | страница 9
Эронс, разумеется, ей никогда этого не скажет.
Когда они ушли, мы с Лэмбертсоном прогулялись у лагуны. Был тихий прохладный вечер; у берега возились утки. Каждый год утка приходила сюда со своим выводком и подводила утят к воде. Они никак не хотели следовать за ней, и тбгда она сердилась и щелкала клювом, то и дело возвращаясь назад, чтобы подтолкнуть какого-нибудь лентяя.
Мы долго стояли у берега и молчали. Лэмбертсон поцеловал меня. Это был наш первый поцелуй.
- Мы можем сбежать отсюда, - прошептала я ему на ухо. Мы можем сбежать от Эронса, от Центра, от всех - куда глаза глядят.
Он покачал головой:
- Не надо, Эми.
- Мы можем! Я встречусь с доктором Кастером, и он скажет, что все хорошо; я знаю, что он это скажет. Мне больше не нужен будет Центр, и никто мне не будет нужен, кроме тебя!
Он не отвечал. Но я знала, что он и не мог ничего ответить.
Пятница, 26 мая. Вчера мы ездили в Бостон к доктору Кастеру. Кажется, все кончено. Теперь я даже не могу вообразить, что еще можно что-либо сделать.
На следующей неделе приезжает Эронс, и я буду работать с ним по плану, который он разработал. Он считает, что нам предстоят года три работы, прежде чем можно будет что-либо опубликовать, - то есть, когда мы будем уверены в полном развитии пси-потенциала у латентов. Может быть, - мне все равно. Возможно, за эти три года я смогу увлечься, так или наверное, - все равно мне больше ничего не остается. Смогу.
Анатомических нарушений у меня нет - доктор Кастер был прав. Отличные глаза, красивые серые глаза, - говорит он,зрительные и слуховые нервы в полнейшем порядке. Нарушение не здесь. Оно глубже. Так глубоко, что уже ничего не исправишь.
Ты теряешь то, чем не пользуешься, - вот что он сказал, извиняясь за грубость формулировки. На мне это, как клеймо. Давным-давно, когда я еще ничего не знала, "пси" было настолько сильным, что начало компенсироваться, вбирая в себя опыт чужих восприятий, - такая копилка богатых, ясных, оформленных впечатлений, с которой не было необходимости иметь свои. И поэтому кое-что осталось во мне, как крючки, на которые ничего не ловится. Теория, конечно, но иначе не объяснить.
Но разве я не права в том, что все это я ненавижу? Больше всего на свете я хочу увидеть Лэмбертсона, увидеть, как он улыбается и раскуривает свою трубку, услышать его смех. Я хочу знать, что такое на самом деле цвет, как на самом деле звучит музыка, не пропущенная через чьи-то уши.