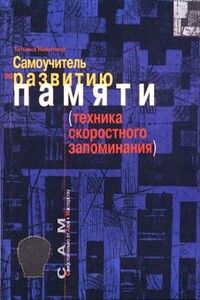Помощь разведенным родителям и их детям: От трагедии к надежде | страница 9
А вот «дух», который с удовольствием поселяется в разведенных родителях: «Мой ребенок не проявляет по отношению к разводу никаких особенных реакций, итак, разлука с отцом не повлияла на него плохо». Да как же трезвым умом можно себе представить такое: меня бросает самый близкий, самый любимый человек, а я не переживаю из-за этого? Или другой «дух развода»: «Ребенок после посещения отца совершенно расстроен. Итак, эти посещения вредят ребенку», а «дух» отца в свою очередь: «...так... так... ребенок не хочет обратно к матери...». Нет, дети в этих ситуациях страдают не из-за свиданий с отцом, а из-за того, как эти свидания обставляются. Если они чувствуют, что «мама сердится на меня за то, что я люблю и папу тоже», они начинают бояться теперь после частичной потери отца потерять еще и мать. Именно этот страх и делает их нервными, раздражительными, «капризными».
Фигдор обращает внимание и на тех «духов», которые поселяются в педагогах: «Спокойные, ненавязчивые дети — это душевно здоровые и социально развитые дети». Но и этот «дух» выполняет весьма важную функцию. Иначе учителю пришлось бы признаться себе в том, что ему гораздо легче работать с группой подчиненных, безынициативных детей, чем с тремя десятками ярко выражающих себя характеров. Психологам известно, что некоторые «трудные» дети, в общем, здоровее тех, которые являют собой пример послушания.
Или такое: «Если у меня трудности с детьми, то в этом, конечно, виноваты родители, и они обязаны что-то предпринять!». Особенно «коварным типом» считает Фигдор «дух школьного партнерства»: «Ученики, родители и учителя должны сотрудничать вместе», т. е. родители должны заботиться об успеваемости и поведении детей. Такое убеждение помогает переложить часть своих собственных задач на плечи родителей, не задумываясь о том, что необходимость делать с детьми уроки дома ведет к дополнительным семейным конфликтам.
То, что здесь образно именуется «духами» родителей и воспитателей, в жизни имеет вид моральных требований или разнообразных, часто практически необоснованных, но очень стойких педагогических теорий. Однако почему Фигдор использует здесь эту метафору «духов» (вселяющихся в непосвященных), а не говорит просто о «педагогических заблуждениях»? Все дело в том, что это не простые заблуждения, они выполняют весьма важную функцию: им приходится удерживать неприятные или вовсе невыносимые мысли и чувства от проникновения в сознание. Как мы говорили, версия самоотверженной, идеальной матери помогает предотвратить чувство вины, которое возникло бы, если бы мать призналась себе, что многое из того, что она делает «на благо ребенка», на самом деле служит удовлетворению ее личных потребностей (например, чрезмерная забота о школьных успехах ребенка, официально декларируемая как «забота о его же будущем», должна доказать мне мою полноценность в качестве матери и т. д.). Убеждение, что я могу своих детей только любить, способствует, как мы говорили, отрицанию амбивалентности в моем отношении к ребенку и, таким образом, тоже защищает меня от чувства вины или от страха, связанного с моей собственной агрессивностью по отношению к детям. Теория возможности бесконфликтного воспитания, в свою очередь, призвана освободить нас от горького осознания того факта, сколько желаний своих детей мы не в состоянии удовлетворить, какую боль причиняем мы этим нашим любимым чадам и какое разочарование и гнев должны они испытывать в наш адрес.