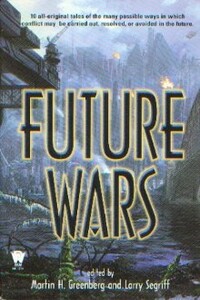Трансцендент | страница 27
В тот день в нашу смоленскую деревню вошёл полк гитлеровцев и расквартировался в тех домах, которые остались целы после его акции устрашения. Половина жилищ была практически уничтожена гранатами, которые немцы кидали прямо в раскрытые окна то ли из-за страха, то ли из-за желания навести ужас на оставшихся в живых стариков, детей и женщин. Чуть на отшибе стоял дом местного плотника, который успел уйти в лес к партизанам. Он оставил в деревне плохо передвигающуюся старушку-мать, больную подагрой жену и десятилетних сына с дочерью, которые должны были ухаживать за своими родителями. Этим молодым пареньком был я, а мою сестру звали Надей.
Немцы, войдя в наш дом, пошныряли по углам, постреляли в сарае, но разместиться по соседству с лесом не захотели, погрозили на прощание пальцем, забрали найденные продукты и отправились по другим хозяйствам. После их ухода мы с сестрой облегчённо вздохнули, насколько это было возможно тогда в наших обстоятельствах. Но, буквально через час, на нашем пороге появился он.
«Опять принесла нелёгкая…» — подумали мы, а приглядевшись, прониклись к немцу интересом. У нашего крыльца стоял высокий светловолосый блондин, худощавый, с голубыми глазами, в позолоченных круглых очках. Солдатский мундир был гладко выглажен, сапоги хоть и запылились, но было видно, что совсем недавно по ним проходились щёткой и кремом. Только пилотка на его голове сидела как-то неумело, как будто чувствовала себя не на своём месте — видимо, немец просто не умел её носить. Но самое главное, что нас поразило тогда — это его улыбка. Широкая, слегка наигранная, как будто клоунская, она вместе с прищуренными глазами и слегка задранным вверх узким подбородком явно шла наперекосяк с окружающей действительностью. Скорее, этого человека можно было встретить за прилавком в бакалейном магазине или в парикмахерской, ну пусть у портного, но никак не на пороге деревенской избы в военной форме и с кобурой на ремне.
Увидев слегка опешивших детей, которые открыли дверь после его вежливого стука, он сделал свою улыбку ещё шире, поднял правую руку вверх, слегка помахал ладонью и произнёс на ломанном русском:
— Приве-е-т!
Поскольку мы не знали, как реагировать на эту нелепицу, то продолжали молча смотреть на него, пока инстинктивно не кивнули головами в ответ.
— О, вы не должны меня бояться! У меня нет патронов! Я не буду стрелять! — голос его был необычайно мягким и даже бархатистым.
Немца звали Дитрих. Его мать иногда разговаривала с подругами на смеси родного польского и русского, и отец, будучи профессором филологии, тоже имел знакомство с русским языком и иногда обучал ему сына. Когда началась мобилизация, мирная немецкая семья не хотела отпускать своего совершенно не подготовленного к армии сына, но отправить его за границу родители просто не успели. Не помогли и университетские связи. Максимум, что удалось тогда выторговать, это не очень уверенное обещание будущего командира полка Дитриха не подставлять его под пули, а использовать только как переводчика и писаря при штабе. Всё это немец рассказал нам с характерным акцентом, когда мы впустили его в дом. Он попросил нас обеспечить ему ночлег, сказав, что среди других военных ему неуютно, а порой просто дико. В качестве оплаты Дитрих протянул нам большую плитку немецкого шоколада, вкус которого до сих пор остаётся у меня на языке. Патронов у него в пистолете действительно не было, он нам его показал и добавил, что вообще не сделал с начала военных действий ни одного боевого выстрела, только изображал стрельбу. В общем, Дитрих как мог завоёвывал наше расположение и надо было признать, что в какой-то мере ему это удалось.