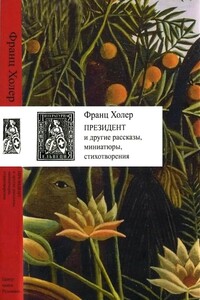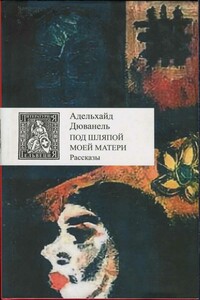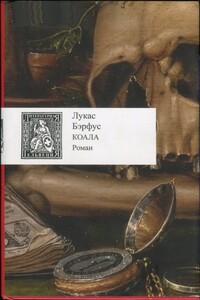Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее | страница 103
Я бы сказал: дух насмешки, воля к дерзким остротам, грубая, пускающая слюни чувственность… Это лицо стоит, словно сатана среди детей Господа, перед своим Творцом. Сколько же скотства запечатлено в чертах этого прирожденного лжеца и убийцы! Нижняя часть лица даже последнюю каплю религиозного чувства обменяла на сладострастие.
Ламетри — в один момент — распознан и осужден. Наряду с патетическим апофеозом короля теперь перед нами предстает картина глумления над святотатцем. В первом случае уже один нос свидетельствовал о величии человека, теперь же подбородок не просто разоблачает прирожденного развратника, но — здесь Лафатер применяет особенно изощренный прием — будто бы свидетельствует о процессе постепенной утраты религиозности и нарастания развращенности.
Легко, слишком легко смеяться над такой практикой чтения по лицам. Очевидно, слишком очевидно, что Лафатер, ничтоже сумняшеся, проецирует свои уже сформировавшиеся симпатии и антипатии на портреты не только современников, но и исторических лиц, таких как Микеланджело или Леонардо, Иисус или Гомер. Трудно нам становится только тогда, когда мы пытаемся понять характер воздействия этого человека на тогдашнее общество. Лафатер стал европейской знаменитостью. Никогда больше, в последующие века, из Цюриха не исходили лучи такой славы. Познавательные экстазы Лафатера, неуклюжего пастора цюрихской Церкви Святого Петра, порождали вибрацию во всех салонах и будуарах континента. Это была лихорадка, сравнимая разве что с бредовыми мечтаниями, начало которым положил франкфуртский друг Лафатера, опубликовав (примерно тогда же) своего «Вертера».
Вертер тоже — приверженец экстатической любви. Он тоже чувствует и распознает одновременно. Он неотразимо привлекателен благодаря пылкой однозначности своей страсти, и наверняка именно это качество делало неотразимо-привлекательным Лафатера. Волшебство, когда-то исходившее от цюрихского пастора как личности, уже невозможно пробудить к жизни. Но далекий отзвук этого волшебства все еще присутствует во многих текстах: главным образом там, где внезапное совпадение непосредственного чувства и умственного осознания какой-то истины заставляет Лафатера забыть о речевом порядке, где повествование содрогается, распадаясь на фрагменты и восклицания, и речь оказывается испещренной восклицательными и вопросительными знаками, многоточиями, тире — то есть сигналами речевой несостоятельности, включенными в сам акт говорения.