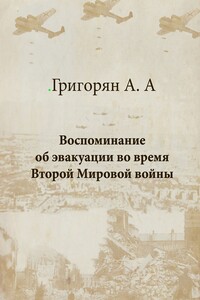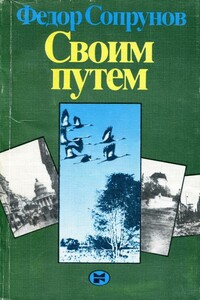Походные записки русского офицера | страница 68
Вчера к вечеру гренадеры перенесли бивуаки свои с Елисейских Полей к Булонскому лесу. «Булонский лес? Боже мой! Расскажите нам что-нибудь об этом парке, знаменитом поединками и самоубийствами!» – кричат мне пламенные рыцари из угла мирной спальни своей, из-под розового одеяла.
Погода очень дурна, господа! И для того я не имел еще охоты заглянуть в этот дедал, куда сумасбродные поклонники зеленого стола, часто бутылки и реже всего пламенника Амурова ходят искать конца жизни, проведенной без пользы себе и ближнему. Но если вы любите внимать грому – не на поле брани, не на поприще истинной чести и следственно истинной славы, – если вы любите внимать стуку мечей, пистолетным выстрелам, стону умирающих и видеть трупы, в крови плавающие, то разверните новейшие романы, которые так скоро расходятся у наших книготорговцев. Можете также удовлетворить своему желанию, заглянув в парижские листки, наполненные ужасными битвами, а иногда одними страшными вызовами, которых слава отдается несколько дней в тамошних кофейных домах. К утешению же вашему скажу, что Булонский лес имеет несколько просек, довольно искусно расположенных, что он содержится в большой чистоте и простирается от севера к югу на 2400 туаз (1 французское лье), а от востока к западу на 1110 туаз. Какое обширное поприще для рыцарских подвигов! Сверх того, бывают здесь несколько раз в году самые блистательные гулянья. За месяц или прежде до рокового дня парижские красавицы утраивают ласки к старым поклонникам своим, жена чаще принимает мужа в свое отделение, и молодой повеса, почти каждый день до утренней звезды, возвращается под кров родительский: все это для того, чтобы в день гулянья собрать венки похвалы с толпы народной и оспорить торжество у соперников – экипажами и лошадьми. Судя по рассказам, можно сравнить эти гулянья с тем, какое Марьина роща представляет 1 мая. Говорят, что многие герои праздника в Булонском лесу меняют на другой день роль свою; из гордых требователей превращаются в униженных просителей и торжественные колесницы свои отдают за бесценок неумолимым кредиторам. Не знаю, дошли ли у нас богатые тщеславием и бедные расчетливостью до такой степени безрассудства.
Мы собрались обществом в Париж и для доставления нас туда наняли огромный фиакр в две лошади, превысокие и тощие. Вообразите себе экипаж актеров, едущих на репетицию, и можете иметь самое верное понятие о нашем рыдване с упряжью. Глядя на него, любуясь его почтенной древностью, освященной ржавым клеймом полвека, я думаю о том, сколь любопытна была бы его история. Искусное перо, начертав ее, подарило бы нам историю самого Парижа от последнего несчастного короля французского до взятия столицы. В этом фиакре мы увидели бы, может быть, и палача, обрызганного кровью государя своего, и гордого члена адского Робеспьерова судилища, и робкого кавалера Святого Лудовика, изгоняемого ужасами гильотины из своего отечества. В нем представился бы нам: во-первых, мамалюк первого консула, прибывший с ним из неудачной экспедиции в Египет; потом возглашатель побед императора от Тага до Оки, взятия Вены, Берлина, Мадрида, Москвы; после того – шпион кровожадного самовластителя, присланный с несчастной переправы через Березину наблюдать, в продолжение новой жатвы людей, за каждым словом, за каждым движением и взором парижских жителей. Наконец, в этом фиакре мы увидели бы себя, то есть шесть русских офицеров, едущих осматривать редкости и красоты Парижа на другой день торжественного в него входа.