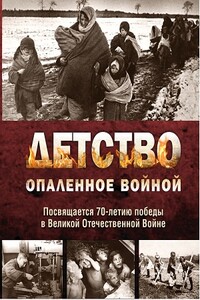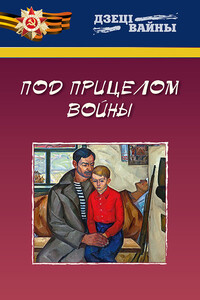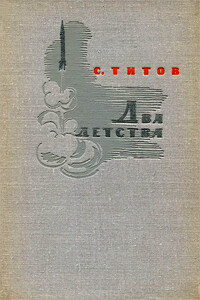Опаленная молодость | страница 42
Условия в центральном лагере были очень тяжелые. Работая на погрузке-разгрузке в совершенно развалившихся сапогах, я простудился. Работа изнуряющая, на открытом воздухе. На ночь пленных загоняли в кирпичное помещение без стекол в окнах, в нем было очень холодно. Кормили только утром и вечером – по черпаку баланды да кусочек хлеба в день. Баланда была скудная даже по сравнению с той, которой кормили в малом лагере. Здесь очень легко было умереть. Дополнительного питания добыть было негде. Разгружать приходилось не продукты, а только боеприпасы.
В марте 1942 года в центральном лагере военнопленных Вязьмы, где я находился, свирепствовал сыпной тиф. «Сыпняк», как его называли, коснулся и немецких солдат, так как вшей – разносчиков тифа – в немецких госпиталях хватало.
Санитарное состояние немецких полевых госпиталей было хуже некуда. Белья постельного не было и в помине, бань походных, как в русской армии, немцы не знали. Через десять дней повторного пребывания в этом лагере заболел сыпным тифом и я. Меня отправили в изолятор для военнопленных, больных тифом. Там же содержались и больные тифом крестьяне из деревень, расположенных в партизанских зонах. Их немцы забирали из деревень насильно, чтобы они не шли в партизаны. В изоляторе находилось человек 70, больных. С нами находились и два врача из советских военнопленных, ранее переболевших тифом. Изолятор представлял собой обыкновенный барак с нарами. Лечения никакого не было, так как не было и медикаментов. Врачи после болезни ослабели, но все время были на ногах, стараясь облегчить наши страдания – подавали поесть, попить, укрывали, чем могли, поддерживали морально. А питание было такое же скудное, как и в лагере. Каждую ночь умирало по 3–4 человека.
На расположенном рядом маслобойном заводе ранее изготавливалось масло сои. Он сгорел еще до войны, от него остались только стены сгоревшего склада, где ранее хранилась соя. Соя сгорела вместе со складом, но на земле осталось немного подгнивших зерен сои. Больные нашего изолятора, спасаясь от голода, подбирали с земли эти отходы и ели. Конечно, у них начинались кишечные заболевания. Врачи уговаривали пленных не есть эту «сою», но не все слушали эти советы. Некоторые, заболев дизентерией, умерли. В живых из всего барака осталось только человек 20. Поскольку с самого начала войны, вот уже на протяжении 5 месяцев, мы не имели возможности ни сменить нательное белье, ни постирать его (а на себя мы надевали все, что имели, чтобы спастись от холода), то количество вшей в одежде было неисчислимое. Основным нашим занятием в изоляторе была борьба с насекомыми. С утра до вечера мы занимались одним делом – уничтожали вшей в одежде. К концу марта 1942 года меня вернули из изолятора в лагерь как выздоровевшего и имеющего возможность работать. Истощенный до предела, на подгибающихся от слабости ногах, без волос (они все выпали), я был на пороге голодной смерти. Нужно было искать какой-то выход. Однако бежать из лагеря без знакомств, без связей, в таком ослабленном состоянии, было невозможно. Счастливый случай представился в ближайшие же дни.