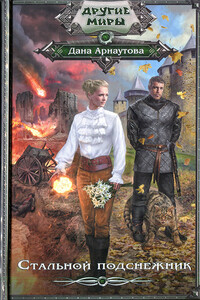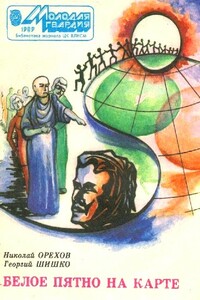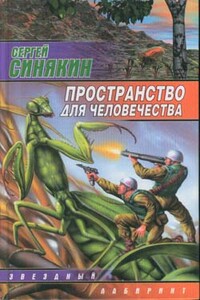Культурный слой | страница 23
Допивая чай, Джереми морщился все сильнее, как от мерзкого запаха. Грязная история, как и хотел Кит. В то время даже над законными переносами в научных целях был строжайший контроль. И две трети заканчивались неудачей. Во Флориде, в «Большом мозге», есть мемориал всем, погибшим или оставшимся инвалидами в результате таких неудач. Здоровые молодые парни: лаборанты, солдаты, студенты. Все — добровольцы. Тщательный отбор, медицинская страховка, абсолютное сопровождение по всем параметрам, в случае успеха — реабилитация и щедрое вознаграждение. И перемещали их в такие же безупречно здоровые тела. А здесь… Интересно, если бы Лисовски за этот год подох, угробив тело Навкина, как его кураторы решили эту проблему? А если бы умер Навкин в теле Лисовски? Они поставили на карту все и сорвали джек-пот. Уникальный научный опыт плюс деньги мистера Лисовски, наверняка щедро оплатившего свой годовой моцион… Джереми откинулся в кресле, закусив губу. Да, он сделает этот материал. Он сделает его так, что Лисовски со своими спасителями в гробу перевернется. Навкин заслужил реквием. Что же он хотел сказать Джереми, забрасывая приманку? И что там со следующим переносом, легальным?
V
Пишу от руки, так лучше развивается мелкая моторика. Рука сильно дрожит, буквы получаются словно покрытые рябью, даже встроенный распознаватель путается. Хуже всего, что почерк — не мой. Буквы высокие, плотно прижатые друг к другу, как дома в готическом квартале какой-нибудь Праги или Каркассона. Высоко, словно шпили, вынесены петельки «в» и «к», хвосты «р», «з», «д» кончаются хищными крючками, тем смешней, что вывожу буквы с натугой, как первоклассник. Так, наверное, художник, привыкший несколькими штрихами набрасывать рисунок, понимает вдруг, что линии разбегаются, не слушаются, не складываются в картину.
Своё нынешнее тело я видел, когда хозяин ещё был в нём. Он заходил знакомиться. Представился Альбертом Николаевичем Зельдманом: невысокий сухой старичок, довольно подвижный и улыбчивый. Помню, изрядно удивился, узнав, что окажусь в его теле, ведь, в сравнении с тем безобразным толстяком, Альберт Николаевич держался отлично. Меня насмешила тогда мысль: не хочет ли он, на старости лет, сделаться, моей волей, культуристом и щеголять на пляже бугрящимися мускулами? Нет, Альберт Николаевич хотел не этого — он жаловался на слабость и недомогание, на мелкую дрожь рук, которой я теперь волен насладиться в полной мере; чуть понизив голос, жаловался на недержание мочи и боли в спине. Сердце, зато, по его словам, работало как часы, с точностью измеряя его жизнь в негромких ударах. Да, он так и выражался, с некоторой поэтичностью, с показной велеречивостью, нарочито избегая грубостей, и в этом звучала непоправимая, врождённая фальшь.