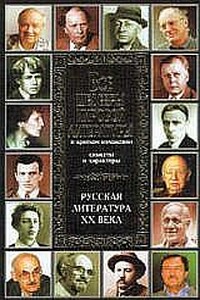В союзе писателей не состоял (Писатель Владимир Высоцкий) | страница 12
- Но существуют же и какие-то вечные ценности, вечные представления, благодаря которым не утрачивается граница между искусством и неискусством.
- Верно. Граница эта никогда не будет утрачена, но она при всей своей неопределенности подвижна. Это не нейтральная полоса. Там, на этой границе, всегда идут бои между новым и старым, живым и отжившим, непривычным и устоявшимся. Высоцкий два десятилетия провел на границе между стихом и театром, между поэзией и прозой.
- Вот-вот. А переступить не смог, не шагнул на территорию настоящей литературы.
- А что, вы думаете, туда можно прийти, шагнуть? Боюсь, что все готовые маршруты в бессмертие -ложны. Еще один афоризм Шкловского. "Не нужно лезть в большую литературу, потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное". Впрочем, давайте перейдем ближе к делу. Чем именно вы недовольны в Высоцком, чего конкретно недостает, по-вашему, в его песнях для соответствия идеалу художественности?
- Ну, прежде всего его песни не выдерживают испытания печатью. При чтении глазами, вне мелодии и авторского голоса, вне особенностей его исполнения они слишком много теряют.
- Может быть, и теряют. С этим я готов согласиться. Но, понимаете, какая штука - авторское исполнение всегда раскрывает в тексте важные смысловые оттенки. Представьте, что к нам в руки сейчас попала бы магнитофонная запись "Евгения Онегина" в авторском чтении. Думаю, прослушав ее, мы кое-что глубже и энергичнее уразумели бы в самом романе, в его сугубо "письменном" тексте. А сколько теряют "Илиада" и "Одиссея" от того, что читатель (даже читающий греческий оригинал) не слышит голоса автора и аккомпанемента его лиры (от которой, к слову, произошла и гитара-кифара)...
- Я с вами серьезно, а вы...
- Да нет же, и я вполне серьезен. Почему это вы поэзию так прочно связываете с бумагой, с письменностью? Ведь всякому, кто более или менее интересовался историей поэтического слова, хорошо известно, что родилось оно в единстве с мелодией, как слово прежде всего звучащее, исполняемое. И, став по преимуществу письменной, поэзия всегда хранит память о своем происхождении. Читаем же мы стихи не только глазами, но и губами, проделывая артикуляционную работу. Без такого "озвучивания" - вслух или "про себя" - нет и наслаждения поэзией. А те шедевры Пушкина и Тютчева, Пастернака и Ахматовой, что памятны нам наизусть - разве мы их "перечитываем" глазами? Да мы их, скорее, "прослушиваем", "включив" своеобразную "звукозапись" в своем сознании.