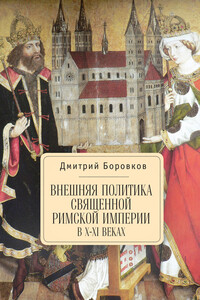Владимир Мономах, князь-мифотворец | страница 2
Согласно М.С. Грушевскому (1866–1934), «Мономах дорожил общественным мнением и старался облекать свои действия в благовидную форму», однако «можно указать несколько фактов, которые не совсем согласуются с традиционным обликом его». В представлении исследователя он «обладал ясным практическим умом, отличался необычайной энергией и деятельностью, замечательным тактом; нельзя заподозревать искренность его набожности, его любви к Русской земле; несомненно, он не был злым, лукавым человеком, но в то же время собственная выгода неизменно фигурирует в его деятельности и ею обуславливаются его поступки»; в то же время «Мономах не был чудом века, как называют его некоторые, а лишь одним из замечательнейших его представителей…»>{3}.
По словам Б.А. Рыбакова (1908–2001), «Владимир Мономах тем и представляет для нас интерес, что всю свою неукротимую энергию, ум и несомненный талант полководца употребил на сплочение рассыпавшихся частей Руси и организацию отпора половцам». При этом, по мнению исследователя, «Мономах, несомненно, был честолюбив и не гнушался никакими средствами для достижения высшей власти. Кроме того, как мы можем судить по его литературным произведениям, он был лицемерен и умел демагогически представить свои поступки в выгодном свете как современникам, так и потомкам»>{4}.
Но существуют и иные характеристики князя. Например, Д.С. Лихачёв (1906–1999) писал, что Владимир Мономах, «конечно, представитель новой идеологии, оправдывавшей новый, провозглашенный на Любечском съезде принцип — “кождо да держит отчину свою”, признавший факт раздробления Руси», который «во всех случаях подавал свой голос за упорядочение государственной жизни Руси на основе нового принципа и стремился предотвратить идейной пропагандой те княжеские раздоры, которые в новых условиях могли только усилиться», так что «призыв к единению против общих врагов — половцев, к прекращению раздоров между князьями не был в его устах призывом к старому порядку»>{5}.
Перечень исследовательских оценок Владимира Мономаха и интерпретаций тех или иных аспектов его политической деятельности (наиболее интересные из них приведены ниже) можно продолжать долго. Чтобы лучше понять причины таких противоречий, мы обратимся к источникам, главными из которых являются «Повесть временных лет» и входящее в ее состав «Поучение» Мономаха.
Для удобства читателей цитирование фрагментов из «Повести временных лет» осуществлено в книге по переводу Д.С. Лихачёва; фрагментов из «Киево-Печерского патерика» и «Сказания о князьях Владимирских» — по переводу Л.А. Дмитриева; фрагментов из «Сказания о чудесах» — по переводу Н.И. Милютенко; фрагментов «Послания» Спиридона-Саввы — по переводу А.Ю. Карпова; фрагментов из посланий митрополита Никифора — по переводам С.М. Полянского; фрагментов из анналов Ламперта Герсфельдского — по переводу А.В. Назаренко. Цитирование фрагментов «Поучения» Владимира Мономаха осуществлено по переводу Д.С. Лихачёва (в этом случае приводится ссылка на текст, опубликованный в первом томе «Памятников литературы Древней Руси». М., 1978), за исключением фрагментов, относящихся к автобиографическому перечню «путей и трудов», которые переведены автором настоящих строк (в этом случае ссылка дается на текст, опубликованный в первом томе «Полного собрания русских летописей». М., 2001), равно как и фрагменты Лаврентьевской и Ипатьевской летописей, следующие за текстом «Повести временных лет», а также фрагменты «Устава Владимира Всеволодовича».