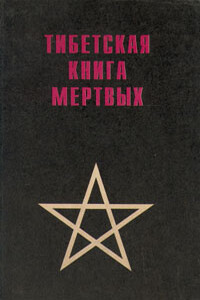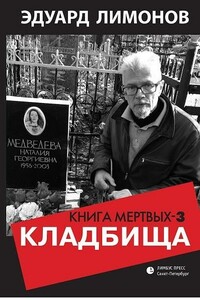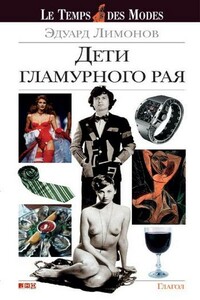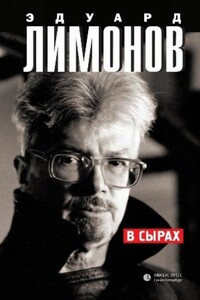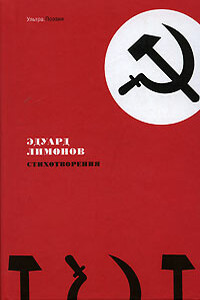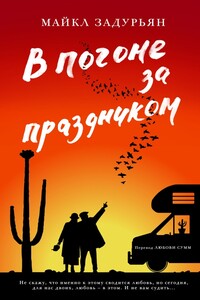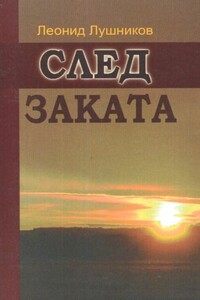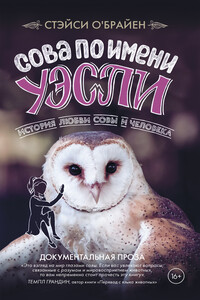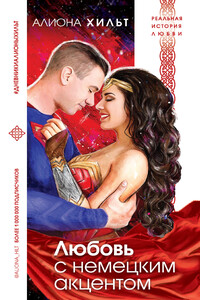Книга мёртвых-3. Кладбища | страница 24
Смущенные черные революционеры удалились, призвав профессора продолжать.
«Какие ваши книги мне стоит прочесть?» — спросил Милош, когда я помог паре дотащить их чемоданы до прилавка регистрации. Я назвал ему мои три книги, изданные к тому времени в Америке.
Прикрываемый женою, он величественно проследовал мимо венгерских таможенников со своим американским паспортом. Если бы у них были хвосты, они виляли бы хвостами.
Источники повествуют, что, вернувшись в Польшу в 1993 году, поэт был награжден высшей польской наградой — орденом Белого Орла, ему были присуждены все мыслимые польские литературные премии.
Умер Чеслав Милош в немыслимом возрасте 93 лет, в 2004 году, и похоронен в «крипте заслуженных» в церкви Святого Станислава, в городе Кракове.
Куда делась злая жена, я не в курсе, без понятия. Дожила ли с ним, или ушла по дороге. Ясно только, что если она жива, то она уже давно не молодая. Ей как минимум лет пятьдесят пять. Так что, что нам до нее, женщины в таком возрасте никого не интересуют.
Советские песни над Дунаем
Раз уж я о Будапеште, так там был еще один мужик, русский критик Владимир Лакшин.
Вот не помню, где он был во время драки, упомянутой мной выше, но наша с ним встреча там, в Будапеште, имела далеко идущие последствия в моей литературной судьбе.
Я прозевал его смерть в 1993 году, не до него было, год был не из легких, но вот теперь восполню свою невнимательность и просчет.
О Лакшине известно, что Лакшин был заместителем главного редактора журнала «Новый мир» во времена Твардовского, что он приветствовал повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и его рассказ «Матренин двор». Вероятнее всего, это Лакшин и притащил «Один день Ивана Денисовича» в «Новый мир», и убедил Твардовского опубликовать свежее и талантливое произведение. Я не солженицыновед, я не знаю.
В конце будапештской конференции, кажется, это называлось круче: «Дни мировой литературы» — писателям устроили отходную. Повезли на пароходе по Дунаю. Я не уверен, что все писатели отправились на пароходе. Когда я вспоминаю этот вечер, переходящий в ночь, я почему–то не помню ни Пола Бэйли, ни итальянцев, и даже Витю Ерофеева не помню, но вдруг вижу себя и мужика в очках, лет на десяток старше меня, мы сидим на плюшевом красном узком диванчике уже очень пьяные и горланим советские военные песни — и Гражданской войны, и Великой Отечественной. И на нас испуганно и враждебно глядят вышколенные официанты. Буквально так вот, выглядывая из кухни, что ли. Во всяком случае, из подсобного помещения, туда–сюда в это помещение и из него они бегали с подносами, они испепеляют нас взорами. Еще боящиеся, русские еще на их земле (вы помните эпизод с автобусом и долго ехавшим рядом с автобусом советским военным открытым «газоном», вы помните офицера с сигаретой, приоткрыв окно над собой, я тогда услышал запах простецкой «Шипки» без фильтра), еще боящиеся, но уже ненавидящие.