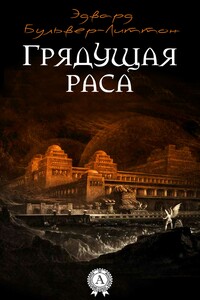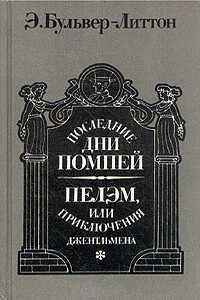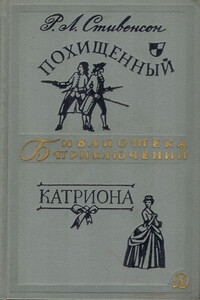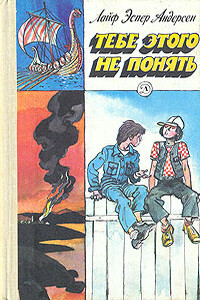Кола ди Риенцо, последний римский трибун | страница 72
III
Положение, в каком находится во время народного неудовольствия патриций, пользующийся популярностью. Сцена в Латеране
Положение патриция, питающего честную любовь к народу, в то время, когда сила угнетает, а свобода ведет против нее войну, когда два разряда людей спорят друг с другом, в высшей степени затруднительно и неприятно. Примет ли он сторону нобилей? Он действует против своей совести. Сторону народа? Он оставляет своих друзей. Но это — не единственное и для твердого ума, может быть, еще не самое важное затруднение. Все люди управляются и связываются общественным мнением, этим общественным судьей, но общественное мнение не одинаково для всех званий. Общественное мнение, возбуждающее или удерживающее плебея, есть мнение плебеев, т. е. тех, кого он видит, встречает и знает, тех, с которыми он имеет отношения с самого детства, похвалы которых он слышит ежедневно, строгая цензура которых следит за ним каждый час. Таким же образом общественное мнение вельмож есть мнение им равных, т. е. людей, которые рождением и обстоятельствами поставлены навсегда на их дороге. Когда мы читаем в настоящее время поверхностные страницы какого-нибудь догматизирующего журналиста о том, что такой-то и такой-то вельможа не осмелится сделать то-то и то-то, например, грозить арендатору или подкупить подателя голоса, из боязни общественного мнения, то неужели его осудит общественное мнение людей, его окружающих, т. е. его захребетники, его клиенты, его сотоварищи по политике и чувствам. Нет, это сделает мнение другого класса, похвала или порицание которого редко доходит до его слуха, пренебрежение к которому его сословие может считать мужеством и достоинством. Это различие исполнено важных практических выводов; его никогда не должен забывать политик, который хочет быть проницательным. Для патрициев существует страшное испытание, которому подвергаются не многие плебеи, и было бы несправедливо требовать, чтобы первые бестрепетно пренебрегали им. Оно состоит в противодействии существующего для них общественного мнения; они не могут не сомневаться в основательности собственного своего суждения и невольно поддаются мысли, что голос мудрости и добродетели заключается в тех звуках, которые были для них оракулами от колыбели. Трибунал частных предрассудков они считают судилищем всеобщей совести. Другое могущественное препятствие для деятельности патриция, находящегося в таком положении, состоит в уверенности, что побуждения, руководящие его поступками, будут неправильно истолкованы как аристократией, которую он оставляет, так и народом, к которому он присоединяется. Бегство от своего сословия в человеке кажется таким ненатуральным, что свет готов искать для объяснения этой тайны любую причину, кроме честного убеждения и возвышенного патриотизма. Честолюбие! — говорит один; обманутая надежда! — кричит другой; какое-нибудь личное неудовольствие! — замечает третий; угодливость черни и тщеславие! — насмешливо говорит четвертый. Народ же сперва благоговейно удивляется, а потом подозревает. При первом противоречии народной воле для популярного патриция уже нет спасения: его обвиняют в том, что он действовал как лицемер, что он одевался в шкуру ягненка и говорят: посмотрите, волчьи зубы показались! Если он дружен с народом, это лесть; если далек от него, это гордость. Прочь же притворство общественного мнения, прочь жалкое обольщение надежды на справедливость потомства: он оскорбляет первое и никогда не получит последней. Что же в подобном положении поддерживает человека, следующего внушениям собственной совести и понимающего все опасности своего пути? Его собственная душа! Помогая своим ближним, истинно великий человек имеет вместе с тем некоторое презрение к ним; их бедствия или благо составляют для него все, их одобрение и порицание для него ничто. Он выходит из пределов того круга, в который поставлен происхождением и привычками; он глух к мелким побуждениям мелких людей. Высоко, через обширное пространство, описываемое его орбитой, он продолжаем свой путь, чтобы руководить и просвещать других, но шум, происходящий внизу, не доходит до него. Пока колесо еще не сломано, пока темная бездна не поглотила звезды, душа день и ночь звучит мелодией для своего собственного уха, не желая прислушиваться к звукам освещаемой ею земли, не ища никакого спутника на стезе, по которой она движется, сознавая свою силу и потому довольная своим одиночеством. Но умы подобного рода редки. Не все века в состоянии производить их, они составляют исключение из обыкновенной человеческой добродетели, которая, если и не испорчена, все-таки находится под влиянием и управлением внешних обстоятельств. В то время, когда быть даже несколько чувствительным к голосу славы считалось уже большим превосходством в нравственной энергии над остальными людьми, было невозможно найти человека, обладающего тем утонченным, абстрактным чувством, тем чистым побуждением к высоким подвигам, тем величием, живущим в собственном сердце, которые так неизмеримо выше желания славы, держащейся за других. В самом деле; прежде чем будем в состоянии обойтись без света, мы должны продолжительным и строгим искусом, одобрением долгого размышления и большим горем, вследствие грустного убеждения в суетности всего, что свет может нам дать, поставить себя выше света. Немногие, даже мудрейшие из людей нашего, более просвещенного века, достигают этой отвлеченности, такого идеализма. И однако же до тех пор, пока мы не будем столь счастливы, мы не можем вполне постигнуть ни божественности созерцания, ни вседоводьного могущества совести, не можем торжественно удалиться в святая святых своей души, где мы узнаем и чувствуем, как наша природа способна к самостоятельному существованию.