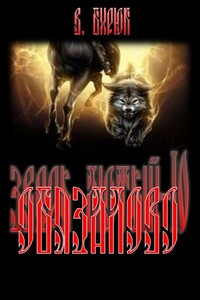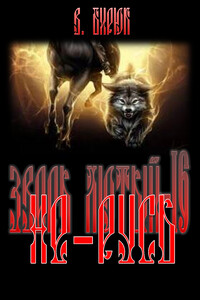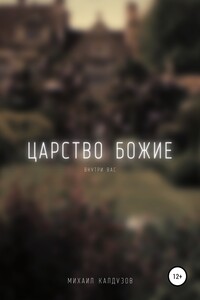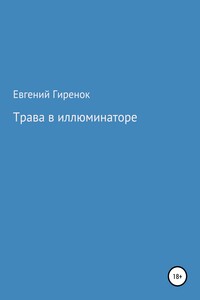Стрелка | страница 64
Главное возражение Аристотеля против идеи Платона о совместном содержании детей состояло в том, что мужчины не смогут отличить своих детей от чужих, а заниматься сексом со своими детьми, говорит Аристотель, «не пристало».
Но у теремного слуги нет «своих»! Есть только «хозяйские» — укор Аристотеля неприменим.
Перебирая уже русскую классику, где аристократы пишут о своём детстве, часто натыкаешься на то, что первый опыт чувств у барчука возникает под влиянием слуг:
«Горничная, молоденькая девушка лет шестнадцати-семнадцати, непрерывно хихикая, попросила меня нарисовать сердце. Я был ещё слишком мал и ничего не знал об „эмблеме Амура“. Потому нарисовал сердце так, как видел его на картинке в анатомическом атласе. Она обиженно фыркнула и убежала» — это уже самый конец 19 века.
«— Да к чему же тратиться на учителей?! Приставим к барчуку холопа Петрушку. Он и присмотрит, и чему надо — научит.
– И будет через двадцать лет в имении два дурака: старый холоп да молодой барин»
Это — Россия 18-го века. Речь об образовании. Входит ли понятие «сексуальное образование» в «чему надо — научит»? Каковы будут эти уроки и каков результат? «Два дурака»?
Боярская семья есть, в первую очередь, орган управления. Административный, хозяйственный, судебный, военный… Эти функции «съедают» всё время и силы родителей. То — служба государева, то — служба церковная. Время — ресурс невосстановимый. А надо ещё и за хозяйством присмотреть. Сил на детей — не хватает. И получаются «сироты при живых родителях», отданные более-менее разумным слугам. С их холопскими представлениями о добре и зле, о границах допустимого, о желаемом…
Самые различные варианты манипулирования, управления, подчинения господ — слугам своим, особенно — детей и женщин, больных, старых и слабых, в разбросанных по изолированным, засыпанным снегом, боярским усадьбам — весьма распространены на «Святой Руси».
«Великое множество дворянских семей доживают свой век в разрушающихся усадьбах по всей России. Защищаемые прежде одним лишь крепостным правом. А ныне — и ничем уже не защищаемые».
Откуда это? Гоголь? Тургенев? Салтыков-Щедрин?
Здесь, в 12 веке, крепостного права ещё нет — «… ничем не защищаемые». Зависимые, прежде всего, от своего окружения, зависимые от своих зависимых слуг.
И не столь важно: имеет ли такое подчинение сексуальный оттенок, или — религиозный, или — дружеский. Сословность, ярлыки, законы остаются за порогом. Две личности, две души выбирают позиции по силе своей. Это — неизбежно.