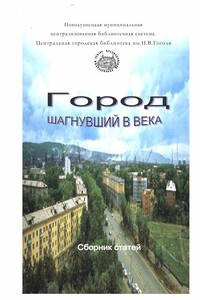Злая корча. Книга 2 | страница 59
Однако Горький уже устает от своих видений: «Иногда, измученный бредовыми видениями, я бежал к реке и купался, — это несколько помогало мне».
Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые, неизвестно как, появлялись предо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем, при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий. Наверное я не очень удивился бы, если б любой дом города вдруг перепрыгнул через меня…
Все — возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукой до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно — если долго бить кулаком по твердому, — убеждаешься, что оно существует.
Земля — очень коварна: идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой как воздух, — оставаясь темной, — и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, — оно длится секунды.
Небо — тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я должен буду неподвижно стоять на одной точке, до той поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют; тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня. Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.