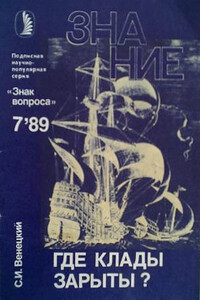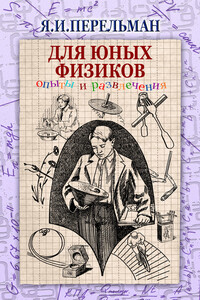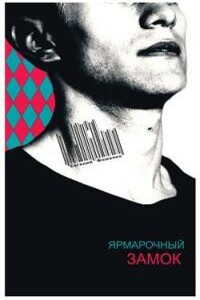Знание-сила, 2004 № 10 (928) | страница 5
Марина Ахметова
От Бога и от беса
Круг реинкарнаций и духовное освобождение. Картина кришнаитского художника
Рациональное и иррациональное не просто соседствуют в современном массовом сознании, но тесно переплетены в нем.
Литература о «непознанном» находит чудесам «научные» объяснения, персонажи традиционной мифологии — лешие, домовые, черти — предстают в обличии инопланетян или полтергейста; за словом «энергия» зачастую читается «колдовство».
Интерес позднесоветского и постсоветского общества к религии, прежде всего к православию, породил феномен «православного ученого», цель которого — не только (и не столько) решение некой научной проблемы, сколько подтверждение религиозной идеи, хотя он относит себя к академической, а не к религиозной среде. Среди религиозных деятелей сегодня довольно много ученых, объясняющих религиозные концепты с помощью научных терминов, и наоборот (например, руководитель Душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского доктор медицинских наук иеромонах Анатолий (Берестов) рассматривает измененные состояния сознания как «заблуждение, прелесть»; один из основателей Белого Братства — автор ряда статей по микроэлектронике и т.д.)
Совмещение научного и мифологического дискурса характерно уже для сознания человека индустриальной эпохи: образованное общество XIX века увлекалось месмеризмом и спиритизмом, крестьяне зачитывались популярными брошюрами последней трети XIX века, в которых светопреставление описывалось как столкновение Земли с другой планетой или катастрофа, вызванная кометой. Теософия и схожие с ней учения претендовали на определенную «научность».
Мы — свидетели еще более тесного взаимопроникновения двух семантических полей. Противопоставление науки и религии, характерное для советской эпохи, кануло в прошлое (в этом смысле показательна судьба одноименного журнала, в середине 1990-х превратившегося из средства атеистической пропаганды в свою полную противоположность). Рубеж XX и XXI веков в России — время жизни многочисленных религиозных субкультур. Для части их научная лексика — своего рода язык общения (собрания называются лекциями и семинарами) — опять-таки происходит «по-научному». Среди них есть и новые религиозные движения, и субкультуры с определенной историей (православная прихрамовая среда). Как идеологи, так и адепты этих субкультур — преимущественно горожане, часто с образованием выше среднего (на 1998 год высшее и неоконченное высшее образование имели, например, 65,22% последователей Виссариона и 46,4% представителей московской общины Богородичного центра).