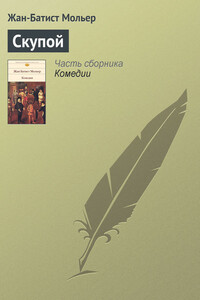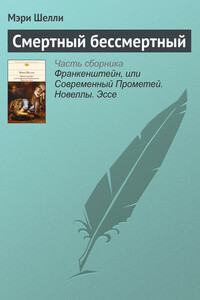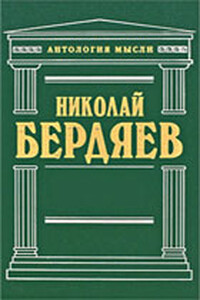Русская идея. Миросозерцание Достоевского | страница 127
Достоевский любил называть себя «почвенником» и исповедовал почвенную идеологию. И это верно лишь в том смысле, что он был и оставался русским человеком, органически связанным с русским народом. Он никогда не отрывался от национальных корней. Но он не походил на славянофилов, он принадлежал уже совершенно другой эпохе. По сравнению со славянофилами Достоевский был русским скитальцем, русским странником по духовным мирам. У него не было своего дома и своей земли, не было уютного гнезда помещичьих усадеб. Он не связан уже ни с какой статикой быта, он весь в динамике, в беспокойстве, весь пронизан токами, идущими от грядущего, весь в революции духа. Он человек – Апокалипсиса. Славянофилы не были еще больны апокалиптической болезнью. Достоевский прежде всего изображал судьбу русского скитальца и отщепенца, и это гораздо характернее для него, чем его почвенность. Это скитальчество он считал характерной русской чертой. Славянофилы же были приземистыми, вросшими в землю людьми, крепкими земле людьми. И сама почва земли была еще под ними твердой и крепкой. Достоевский – подземный человек. Его стихия – огонь, а не земля. Его линия – вихревое движение. И все уже иное у Достоевского, чем у славянофилов. Он по-иному относится к Западной Европе, он – патриот Европы, а не только России, по-иному относится к петровскому периоду русской истории, он писатель петербургского периода, художник Петербурга. Славянофилы были в цельном быту. Достоевский весь уже в раздвоении. Мы еще увидим, как отличаются идеи Достоевского о России от идей славянофилов. Но сразу же хотелось бы установить, что Достоевский – не славянофильской породы. По бытовому облику своему Достоевский был очень типичный русский писатель, литератор, живший своим трудом. Его нельзя мыслить вне литературы. Он жил литературой и духовно, и материально. Он ни с чем не был связан, кроме литературы. И он являл своей личностью горькую судьбу русского писателя.
Поистине изумителен ум Достоевского, необычайна острота его ума. Это один из самых умных писателей мировой литературы. Ум его не только соответствует силе его художественного дара, но, быть может, превосходит его художественный дар. В этом он очень отличается от Л. Толстого, который поражает неповоротливостью, прямолинейностью, почти плоскостью своего ума, не стоящего на высоте его гениального художественного дара. Конечно, не Толстой, а Достоевский был великим мыслителем. Творчество Достоевского есть изумительное по блеску, искристое, пронизывающее откровение ума. По силе и остроте ума из великих писателей с ним может быть сравнен лишь один Шекспир, великий ум Возрождения. Даже ум Гёте, величайшего из великих, не обладал такой остротой, такой диалектической глубиной, как ум Достоевского. И это тем более изумительно, что Достоевский пребывает в дионисической, оргийной стихии. Эта стихия, когда она целиком захватывает человека, обычно не благоприятствует остроте и зоркости ума, она замутняет ум. Но у Достоевского мы видим оргийность, экстатичность самой мысли, дионисична у него сама диалектика идей. Достоевский опьянен мыслью, он весь в огневом вихре мысли. Диалектика идеи у Достоевского опьяняет, но в опьянении этом острота мысли не угасает, мысль достигает последней остроты. Те, которые не интересуются идейной диалектикой Достоевского, трагическими путями его гениальной мысли, для кого он лишь художник и психолог, те не знают много в Достоевском, не могут понять его духа. Все творчество Достоевского есть художественное разрешение идейной задачи, есть трагическое движение идей. Герой из подполья – идея, Раскольников – идея, Ставрогин, Кириллов, Шатов, П. Верховенский – идеи, Иван Карамазов – идея. Все герои Достоевского поглощены какой-нибудь идеей, опьянены идеей, все разговоры в его романах представляют изумительную диалектику идей. Все, что написано Достоевским, написано им о мировых «проклятых» вопросах. Это менее всего означает, что Достоевский писал тенденциозные романы à thèse