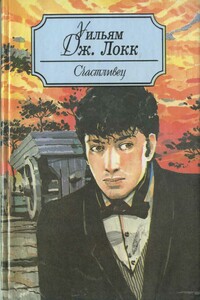Счастливец. Друг человечества | страница 76
— Я замечаю, моя дорогая Урсула, — сказал он решительным тоном, — что наш гость сирота, из хорошей итальянской семьи, привезенный в Англию опекуном, ныне покойным, жившим во Франции. Также и то, что у него выдающаяся внешность, приятные манеры, основательное образование и, очевидно, нет никаких знакомств. Но вот чего я не могу понять: какого рода жизнь он ведет? Как случилось, что он чуть не умер от истощения во время своей экскурсии — ты помнишь, доктор указывал на это, откуда он пришел и куда пойдет, когда покинет наш дом? Поистине, он представляется мне очень неопределенной и таинственной личностью, о которой вы, для женщины вашего характера, знаете поразительно мало.
Мисс Уинвуд ответила, что она не могла вмешиваться в частные дела молодого человека. Ее брат возразил, что юноша в таком беспомощном физическом состоянии, если бы действительно был прямодушен, сам выложил бы всю историю своей жизни такой симпатичной женщине и заставил бы ее плакать над тайнами его души.
— У него высокие стремления. Он говорил мне о них, — сказала Урсула.
— К чему же он стремится?
— К чему может стремиться блестящий юноша двадцати двух или двадцати трех лет? К чему-нибудь, ко всему. Ему надо только найти свой настоящий путь.
— Да, но каков его настоящий путь?
— Я хотела бы, чтобы ты не был так похож на дядю Эдуарда, Джемс! — сказала Урсула.
— Он дьявольски проницательный старик, — возразил полковник Уинвуд, — и я хотел бы, чтобы он остался здесь для того, чтобы подвергнуть нашего молодого друга основательному перекрестному допросу.
Урсула приподняла свою чашку на дюйм от салфеточки и осторожно поставила ее на место. Это было в вечер приезда полковника Уинвуда, и они сидели за кофе в большой, увешанной картинами и мягко освещенной столовой. Установив чашечку точно в центре салфеточки, мисс Уинвуд подняла глаза на брата.
— Мой дорогой Джемс, ты думаешь, что я идиотка!
Он вынул сигару изо рта и взглянул на нее с не лишенной юмора суровостью.
— Когда свет был очень молод, моя дорогая, — сказал он, — то, помнится, я называл тебя так. Но ни разу с тех пор.
Она протянула руку и ударила его по руке. Она очень любила его.
— Ты не можешь перестать быть мужчиной, мой дорогой, и думать обо мне по-мужски. Но я не идиотка. Наш молодой друг, как ты называешь его, беден, как церковная мышь. Я знаю это. Нет, не спрашивай «откуда?», как дядя Эдуард. Он ничего не говорил мне. Но сестра милосердия рассказала мне разрывающую сердце повесть о его белье и других вещах. К тому же и диагноз врача. Я не забыла. Но мальчик слишком горд, чтобы жаловаться посторонним на свою бедность. Он мужественно несет свою долю. Послушать его, так подумаешь, что не только у него никаких забот нет, но что он правит землей. Как можно не восторгаться мужеством этого мальчика и — тут объяснение моего молчания — как не уважать его замкнутость?