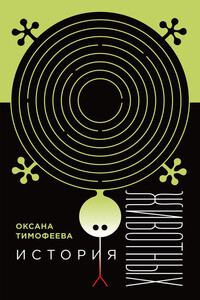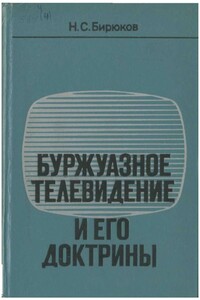Поэзия и полиция. Сеть коммуникаций в Париже XVIII века | страница 23
Навязав своим людям это унижение, Людовик заставил их еще и платить за него. Народ был обложен огромными налогами, но большая часть прямых доходов не подлежала налогообложению, по крайней мере теоретически. Во время национальных бедствий и особенно войн король вводил дополнительные поборы, называемые «affaires extraordinaires»; но в мирное время он должен был жить за счет своих собственных доходов, а также традиционных налогов вроде тальи и подушной подати, чрезвычайно запутанных за счет разных исключений, особенно для дворянства и духовенства. Людовик XV ввел «экстраординарный» «dixième» (налог на десятую часть дохода) для сбора средств для Войны за австрийское наследство и обещал отменить его через четыре месяца после заключения мира. Вместо этого он превратил его в «vingtième» (налог на недвижимость, составляющий двадцатую часть дохода), который должен был взиматься в течение двадцати лет и был куда строже всех предыдущих налогов, потому что высчитывался по новым оценкам всей земельной собственности, включавшей имущество дворянства и церкви[56].
Историки обычно хорошо отзываются о «vingtième» и его авторе – Машоле д’Арнувиле[57]. Он одним ударом ликвидировал основные льготы для привилегированных слоев общества и модернизировал финансовую обстановку в стране. Но современники видели этот налог в ином свете. Для них, по крайней мере для тех, кто записывал свои мысли в дневники, он открывал возможности для больших злоупотреблений со стороны короля. Особый налог в мирное время! Который будет взиматься постоянно, ведь нет институтов, уполномоченных его отменить! Единственная надежда оставалась на парламенты, которые могли отменить королевский указ, отказавшись подписать его и выразив протест. Даже если король принудил бы парламенты во время «lit de justice» принять налог, они все равно могли бы сопротивляться, взывать к справедливости и поднять страну против него, объявив, что новые поборы причиняют вред всем, а не только привилегированным группам, вроде них самих.
Парламенты часто упоминали в связи с еще одним широко обсуждаемым делом, то набирающим силу, то затихающим с конца XVII века, – янсенизмом. Изначально будучи спором о природе благодати, он превратился в аскетическую жизненную модель, принятую юристами, врачами, учителями и дворянством мантии («la noblesse de robe», представителями дворянства, получившими титулы от занимаемых в правительстве должностей), из которых набирались члены парламентов. Людовик XIV убедил Папу осудить янсенизм как ересь в булле «Unigenitus», и сопротивление парламентов булле стало основной причиной распрей с короной в 1730-х и 1740-х годах. В 1749 году парижский архиепископ Кристоф де Бомон велел отказывать в причастии любому, кто не сможет показать свидетельство об исповеди, подтверждающее, что он поверял душу священнику, признающему «Unigenitus». Противостояние претерпело множество поворотов и изменений за несколько последующих лет, но к концу 1749 года оно уже имело своих мучеников – истовых янсенистов, умерших не получив отпущения. Наиболее известным из них является Шарль Коффин, бывший ректор Парижского университета, умерший в июле. Толпа из почти 10 тысяч сочувствующих шла за его гробом по улицам Левого Берега. Это была политическая и религиозная демонстрация, потому что король поддерживал притеснения янсенистов. И это, вполне возможно, отразилось на простых людях, которые выработали свою версию янсенизма – смесь исступленной религиозности и веры в чудесные исцеления. Отказать в отпущении грехов умирающему христианину значило, в глазах многих, обречь его на пребывание в Чистилище, что было непростительным злоупотреблением королевским и церковным авторитетом