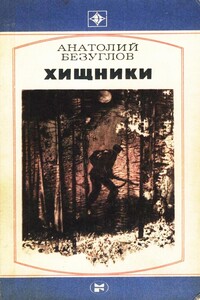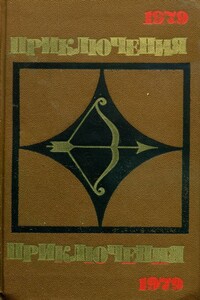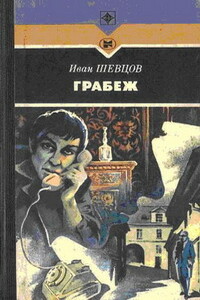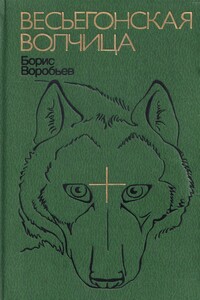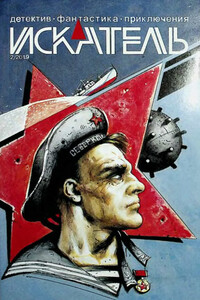Десять баллов по Бофорту | страница 45
Уже готовился к обходу постов японский поручик.
Уже Мунко, сняв часового, закладывал в плотину бомбы.
Уже навстречу своей судьбе ехал по темной дороге кореец Ун.
Но еще не спал в своем бронеколпаке прикованный к пулемету солдат-камикадзе, который через несколько минут пошлет в грудь Мунко смертельную очередь.
Еще стояли в ангарах холодные танки, которые встретит у моста двадцатитрехлетний Иван Рында.
Еще не была дослана в ствол миномета мина, которая ранит Баландина.
Но эти минуты истекали, и, когда последняя канула в вечность, над миром грянули автоматы. Они гремели, как набат, как аккорды торжественного реквиема, оплакивая мертвых и прославляя живых…
Боль и отчаяние захлестнули душу Ивана Рынды.
Обратившись в ту сторону, где над морем, как следы метеоров, метались и гасли на лету огненно-белые трассы, он по грохоту и доносившимся крикам пытался представить себе ход так неожиданно начавшегося боя.
Еще минуту назад ничто не предвещало его; теперь же боевые звуки становились все громче и ожесточеннее, все беспощадней и сильней; и эта беспощадность, это непрерывное нарастание огня не могли продолжаться вечно. Они требовали исхода, и этим смертным истечением могла стать только гибель Калинушкина и Шергина. Что могли сделать двое, пусть сильных и отважных людей, против сорока или пятидесяти солдат, поднятых среди ночи, растерянных и напуганных, преодолевавших сейчас этот страх и растерянность и потому злых и одержимых жаждой расплаты?
Но сердце Ивана, ожесточившееся в войне, испепеленное огнем бесчисленных страданий и потерь, восставало против гибели близких и дорогих ему людей, и он с надеждой вслушивался в шум и грохотанье схватки, шепча страстные и неразборчивые слова.
Треск и гул в океане достигли той силы, по которой можно было определить, что развязка приближается. Затем и гул и треск смолкли, и сердце Ивана сжалось от предчувствия и безысходной тоски. Он не хотел верить, что все уже предрешено там, на танкере, и не знал, что в эти минуты Калинушкин переползает на другую позицию, а почти теряющий сознание, окровавленный Шергин спускается по трапу в теснины артиллерийского погреба.
Теперь время не тянулось — летело. Тьма уступила место предрассветному сумраку. Светлые полосы тут и там засветились на небе, и стали видны пунктирные струи отвесно падающего дождя.
Остров ожил. Смутный гул, словно гул начинающегося землетрясения, зародился в его недрах, вырываясь и выплескиваясь наружу в дальних и ближних концах молчавшего дотоле массива. То был гул спешно передвигавшихся людских масс, застигнутых взрывами и занимавших теперь свои места в капонирах, в траншеях, у амбразур, где, слепо уставясь в сумрак, людей дожидались мертвые и потому бесполезные пока агрегаты войны. Им требовались цель и программа, и они уже задавались им, но лязг орудийных замков и скрипы поворотных устройств и механизмов не слышались за расстоянием; все вбирал в себя и заполнял низкий, как рокот моря, гул.