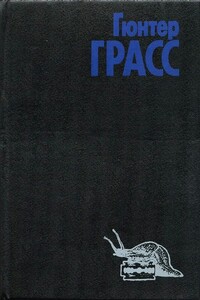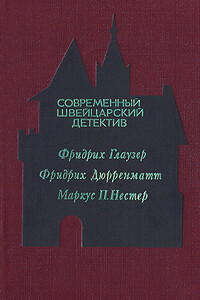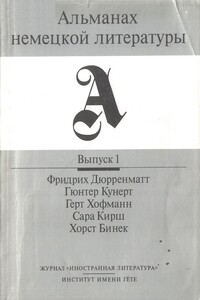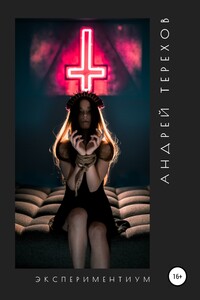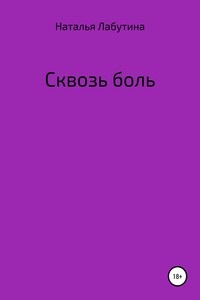Рассказы. Грек ищет гречанку | страница 6
Еще совсем недавно иные критики потешались над Дюрренматтом как над мрачным комиком балаганного типа, на потеху жизнерадостной публике (ты пугаешь, а нам не страшно!) твердившим о неизбежном конце человечества. Но времена быстро меняются, и вот уже то, что еще вчера казалось гротескным приемом, трагикомической гиперболой, стало восприниматься как повседневная реальность. Похоже, даже сам Дюрренматт не ожидал от истории такой прыти.
Тревожно-пугающие предсказания, относящиеся к более или менее отдаленному будущему, — а он, опираясь на закон больших чисел, задолго до Чернобыля предсказал «чудовищные по своим масштабам катастрофы в области атомной энергетики» — в одночасье обрели характер срочного диагноза, действительность настигла, а кое-где и оставила далеко позади себя даже самые смелые фантазии. Над планетой уже вспыхнула горестно-яркая звезда Полынь, по усеянным радионуклидами полям и лесам уже скачут суровые всадники Апокалипсиса, мир раздирают этнические и религиозные конфликты. Если и дальше так откровенно пренебрегать настоящим, то будущего может и не быть. Чтобы выжить, человек должен научиться жить по-иному, быть скромнее в своих потребностях, отказаться от претензий на роль хозяина и повелителя живой и неживой природы, заклинал писатель. И не забывать о чудодейственной силе любви. «Только любовь способна воспринимать милость судьбы такой, какая она есть, — внушает Архилохосу президент в повести «Грек ищет гречанку», выдавая, может быть, самые сокровенные мысли Дюрренматта. — Знаю, это самое трудное. Жизнь ужасна и бессмысленна. И только любящие вопреки всему могут верить в то, что и в ужасе, и в бессмыслице кроется какой-то смысл».
Фридрих Дюрренматт был признанным мастером детективного жанра. Он не только обогатил возможности детектива, но и как бы исчерпал их, растворил в проблемах общефилософского свойства. По крайней мере, он счел себя вправе объявить о смерти этого жанра, пропеть ему «отходную», хотя тема преступления и наказания, поднятая до уровня философского осмысления жизни и смерти, волновала его вплоть до самых последних произведений. На первый взгляд роман «Судья и его палач» (1952) мало чем отличается от традиционного англосаксонского детектива. В нем есть круто замешенный сюжет и основные ингредиенты жесткой схемы: жертва, преступник и тот, кому по долгу службы и по внутреннему убеждению положено это преступление распутать. Более того, происходит — не без участия проницательного, себе на уме сыщика — как бы удвоение криминального действия: поиски одного преступника накладываются на поиски другого, более изощренного и страшного, перераспределяются функции, сыщик берет на себя роль судьи (что, как известно, противоречит закону), а функции палача возлагает на вычисленного им менее опасного преступника (разумеется, без ведома последнего). Но есть в романе и еще более странные неожиданности. Не добро и зло противостоят в нем друг другу, как это принято в «добропорядочном» детективе, но, скажем так, меньшее зло большему злу. То, что делает комиссар Берлах, имеет мало общего с отправлением законности, а скорее смахивает на самосуд. Однако Берлах все же не носитель зла, он действует вопреки закону, но в полном согласии с совестью и справедливостью. Уже в этом первом детективе торжествует сатирический дар Дюрренматта. Парадокс таится в глубине и пока не выходит на передний план, не становится стержнем сюжета.