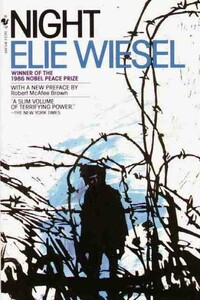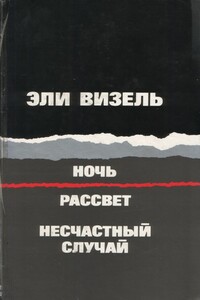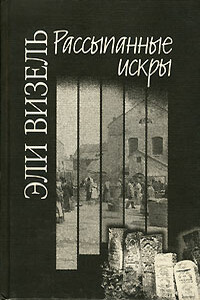Ночь. Рассвет. Несчастный случай | страница 104
— Садись, — сказал Джон Доусон, освобождая мне место на койке слева от себя.
Я уселся. Только теперь я понял, что он на целую голову выше меня. И ноги его были длиннее моих, мои ноги даже не доставали до пола.
— У меня есть сын твоих лет, — начал он, — но он совсем не похож на тебя. У него светлые волосы, он силен и здоров. Он любит поесть, выпить, ходить в кино, смеяться, петь и гулять с девушками. Ему совершенно не свойственны твоя тревога, твоя печаль.
И он принялся рассказывать мне про этого сына, который «учится в Кембридже». Каждое его слово обжигало мне тело, словно язык пламени. Правой рукой я дотронулся до пистолета, лежавшего в моем кармане. Пистолет тоже был раскален и жег мне пальцы.
«Я не должен слушать его», — подумал я. Он мой враг, а у врага нет истории. Я должен подумать о чем-нибудь другом. Поэтому мне хотелось увидеть его — чтобы подумать о чем-нибудь другом, пока он разговаривает. О чем-нибудь другом… но о чем? Об Илане? О Гаде? Да, я буду думать о Гаде, а он думает о Давиде. Я буду думать о нашем герое, Давиде бен Моше, который…
Я прикрыл глаза, чтобы получше представить себе Давида, но безуспешно, поскольку я никогда не видел его. «Имени еще недостаточно», — подумал я. Человек должен иметь лицо, голос, тело, а уж к ним я прилажу имя Давида бен Моше. Лучше подумать о лице, голосе, теле, которые я действительно знаю. Гад? Нет, трудно вообразить себе Гада, приговоренным к смерти. Приговоренный к смерти… в этом все дело. Как мне это раньше не пришло в голову? Джон Доусон приговорен к смерти; почему бы мне не наречь его Давидом бен Моше? На ближайшие пять минут ты Давид бен Моше… в тусклом, холодном, белом свете камеры смертников в тюрьме Акры. Стук в дверь, входит рабби, чтобы прочитать с тобой псалмы и услышать твой видуй[7], это ужасное признание, с ним ты принимаешь на себя ответственность не только за те грехи, что совершил ты сам — словом, делом или мыслью, но и те, в которые ты мог ввергнуть других людей. Рабби дает тебе традиционное благословение: «Господь благословит и сохранит тебя…» и призывает тебя не страшиться. Ты отвечаешь, что не боишься и что, будь твоя воля, ты бы сделал то же самое снова. Рабби улыбается и говорит, что за стенами тюрьмы все гордятся тобой. Он настолько растроган, что изо всех сил пытается сдержать слезы; наконец, ему становится невмоготу, и он рыдает. Но ты, Давид, не плачешь. Ты с нежностью смотришь на рабби, потому что он — последний человек, которого ты видишь перед смертью (палач и его подручные не в счет). Он рыдает, и ты пытаешься утешить его. «Не плачьте, — говоришь ты. — Я не боюсь. Не нужно жалеть меня».