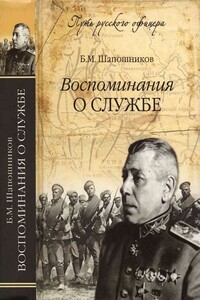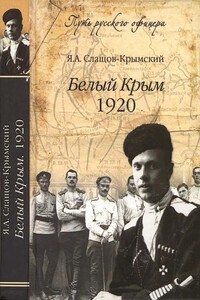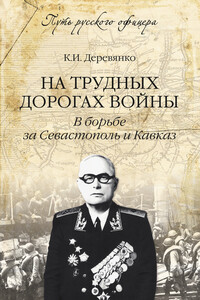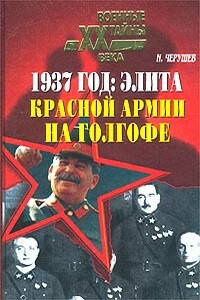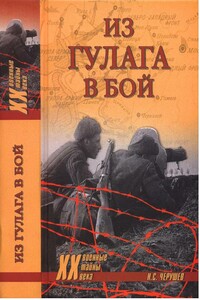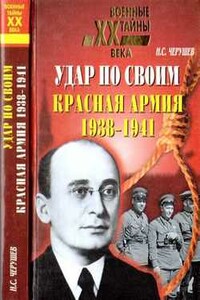Вацетис — Главком Республики | страница 5
Батрак работал не только от зари до зари, а также и ночью. Для батрака не было ни праздника, ни отдыха, его никто не спрашивал, есть ли у него теплая обувь и шуба, чтобы выдержать поездку в дальний город в зимнюю стужу; может ли он уехать на неделю, когда его жена и дети лежат при смерти. Врача в таком случае никто не позовет.
Заработка моего отца не хватало на прокормление многочисленной семьи, и поэтому пришлось отдавать нас, детей, с малолетства по чужим людям, «к хозяевам», чтобы зарабатывать себе средства существования сельскохозяйственным трудом. Обыкновенно отдавали нас на лето от 23 апреля до 15 октября. Батраков нанимали на год, от 23 апреля до 23 апреля следующего года. Таким образом, в Прибалтике для батрацкого сословия существовал традиционный Егорьев день, сохранившийся до революции. 23 апреля по всей Прибалтике представлял собою день народной скорби: беднота переезжала в этот день от одного хозяина к другому, в надежде, что у нового работодателя будет лучше. В этот исторический день все транспортные средства хозяев, в особенности плохих, были заняты перевозкой скарба вновь нанятых батраков. У такого сорта «благодетелей» батраки менялись каждый год, и приходилось ездить за новыми через 2–3 волости. Восемь раз в течение восьми лет пришлось мне шагать 23 апреля к хозяину и 15 октября возвращаться домой с заработанным пайком, которого до следующего 23 апреля обыкновенно не хватало. По расценкам 1887 г., например, я, юноша 14 лет, заработал, в переводе на деньги, от 23 апреля до 15 октября около 13 рублей, на хозяйских харчах. Обыкновенно являлись дети от хозяев исхудалыми, так как нас кормили хуже, чем взрослых батраков. Отдавать детей к хозяевам считалось несчастьем. Этот вид эксплуатации детского труда существовал только для батрацких детей; дети разночинцев и горожан росли в иных условиях: у них было беззаботное детство, они посещали школу круглый год.
Батрак вынужден был мириться с тяжелой участью своих детей: он был беден, и его семья разделяла его участь бедняка. Он вынужден был отдавать своих детей с самого раннего возраста хозяевам для того, во-первых, чтобы они не голодали и, во-вторых, чтобы дать возможность им зимой посещать местную волостную школу; те батраки, которые своих детей не отдавали хозяевам, должны были платить за право обучения штраф — три рубля. Отдавать своего ребенка на лето вне своей волости батрак тоже не имел права; те, кто это делал, должны были платить штраф — три рубля. Такой порядок был заведен для того, чтобы разоренные баронами волости не лишались дешевых рабочих рук. Протестовать против таких рабских порядков было бесполезно, ибо в руках хозяев была мызная полиция и волостная тюрьма. Никакой протест не получал законного выхода. Поэтому напряженность глухого скрытого брожения среди батрачества росла от поколения к поколению, неоднократно давая взрывы, трактуемые при царизме как нарушение общественного спокойствия, караемые казацкими нагайками и тюрьмой.