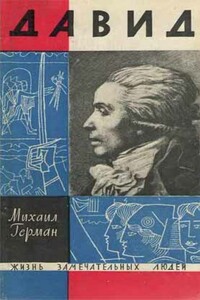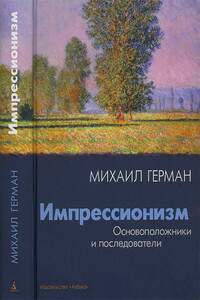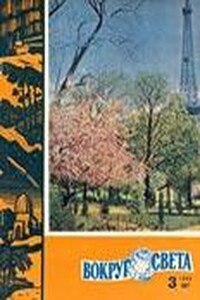В поисках Парижа, или Вечное возвращение | страница 27
Я, случалось, вырезал и хранил статьи Эренбурга о западной культуре, о «священных камнях Европы» – его любимое выражение. Нынче они кажутся слишком пафосными, но в те темные годы пафос и преклонение перед культурой, которую принято было лишь поносить, стоили дорого и значили много.
Можно повторить: писателя судят по им написанному – оно неоспоримо, а не по поступкам, о которых можно лишь предполагать. Нам ли давать оценки тому, что мы знаем так мало!
Во всяком случае, судья – не я, любивший и любящий его читатель, благодарный за уроки литературного и гражданского европеизма. И как понимаю я теперь эти его строчки: «Зачем только черт меня дернул / Влюбиться в чужую страну?»
В 1957 году я окончил институт и стал работать в Павловске – прекрасном дворце-музее, разрушенном во время войны, который уже начали реставрировать. По мере сил с немногими иностранцами, приезжавшими в Павловск, я старался щебетать по-французски или по-английски, но все это был дилетантизм, претензии, и больше ничего. Просто тогда люди моего поколения языков не знали вовсе и кое-какое умение говорить уже было редкостью.
Судьба меж тем делала мне драгоценные сюрпризы.
Она подарила мне знакомство и почти дружбу с совершенно особенным человеком – Александром Семеновичем Розановым, человеком абсолютно европейской, более всего французской культуры. Его стиль, его французский язык так и остались для меня чем-то решительно недосягаемым: это был тот французский язык, «на котором не только говорили, но и думали наши деды» (Л. Толстой. Война и мир). Французы дивились его речи. Она звучала достоверными оборотами и интонациями XVIII века, но удивительным было не знание языка, а естественность и органичность этого знания. Порой он, как герои Толстого, запинался в поисках русского слова и говорил что-нибудь по-французски. И звучало это абсолютно естественно.
Так, кажется мне, мог говорить по-французски Пушкин (разумеется, я имею в виду не литературный дар, а отношения с языком). Не было слова или оборота, которых бы он не знал. Его французские письма ко мне[3] я показывал французам старшего поколения: они не верили, что писал их русский. Только качество бумаги могло их убедить, что они написаны в СССР!
Высокий, худощавый, чуть уже стареющий, но свежий и элегантный, даже одетый во все вполне советское, даже в традиционные сандалии, «советского человека» он не напоминал вовсе. Скорее, походил на тургеневского персонажа, который «всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто». Его душистая чистота, свежая до стерильности, отлично отутюженная одежда, решительно независимая от моды, лицо, сухое, породистое, выбритое до матовой шелковистости, наконец, стать – все это дышало каким-то «физиологическим европеизмом», воплощенной «набоковщиной». Грациозность интонаций, «простота и важность», как писал Пушкин, его разговора до основания потрясали мое опровинциалившееся несколько в Академии сознание. Обаяние моего нового знакомца обрушилось на меня сразу. Я был покорен его веселой изысканностью, забытым блеском безупречной русской речи, аристократической простотой и той уважительностью, с которой он отнесся ко мне, еще совсем молодому и скверно образованному человеку. Музыкант и композитор, тогда, в Павловске, обретал он ту новую профессию, которая и принесла ему подлинную известность. Стал заниматься историей музыки, написал книги – о Полине Виардо, выдержавшую несколько изданий, о музыкальном Павловске; открыл композитора XVIII века Яхонтова и опубликовал его оперу, издавал и комментировал письма русских музыкантов, стал европейски известным специалистом. Но, кажется мне, не профессия его определяла, а он профессию. Блистательный знаток старины, русской и французской, он понимал минувшее не просто как историк – он существовал в ином времени как в собственном и обсуждал события и людей двухсотлетней давности как их современник. Генеалогия не то что Бурбонов или Валуа, но множества других знатных французских фамилий была ему знакома до тонкостей, и даты знал он назубок – он был подобен живому «Готскому альманаху».