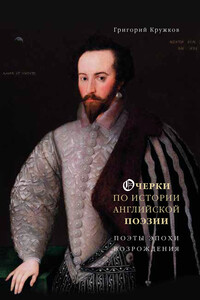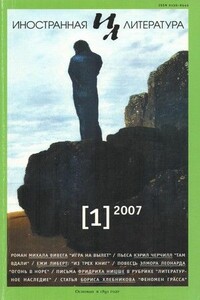Романтики и викторианцы | страница 33
Что же, Пастернак нарочно вводит в заблуждение друга? Да нет же! Он просто сделал то, что ему насоветовал Ките: прочел страницу «утонченной прозы», отправился бродить, не оставляя мысли об этой странице, согласовал с нею свои мечты – и, наконец, стал пророчить, основываясь на этой странице… (И кстати, правильно напророчил.) Видимо, он даже не заметил, что говорит уже больше от себя, чем от пересказываемого автора.
Далее в письме Рейнольдсу следует стихотворение «Что сказал дрозд», с помощью которого Ките доказывает свой тезис об «усердном безделье», об ущербности многознания и о том, что люди напрасно не доверяют самобытности собственного ума. Пастернак тоже перевел его в своем письме Локсу, хотя вчерне и не полностью. Я позволю себе привести здесь последние шесть строк в своем переводе.
Пастернаковские переводы из Китса (сделанные весной 1938 года) наперечет: «Ода к осени», вступление к «Эндимиону», два сонета. Но оказывается, еще за двадцать пять лет до этого Пастернак выписывал цитаты из Китса и пробовал его на зуб. И напрасно потом Пастернак бранился против романтизма: оказал же ему английский романтик неоценимое благодеяние одним своим «пассивным существованием», заочным разговором о непонятности поэзии. Далеко раскатилось эхо и от китсовского дрозда – может быть, вплоть до самого: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну…».
Рим – город холмов и, следовательно, лестниц. Лестница – символ преодоления, фонтан – легкости и неистощимости жизни.
О римских фонтанах я впервые услышал от Аркадия Штейн-берга. Он сказал: «Всякий, кто хочет научиться переводить сонеты, должен знать наизусть «Римские сонеты» Вячеслава Иванова». И прочел:
Фонтан «Черепаха» я отыскал на маленькой затрапезной площади, в стороне от обычных туристских троп. Я тщательно проверил Иванова, сравнил, так сказать, с оригиналом: в сонете все оказалось верно, только много лучше: