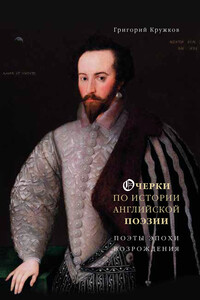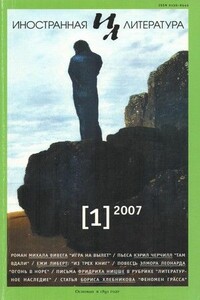Романтики и викторианцы | страница 106
Роберт Браунинг: между Пушкиным и Достоевским
Очевидно, что в европейских литературах всегда существовали синхронные, параллельные явления и события. Особенно хорошо они видны в ретроспективе, когда мы из своего далека, как некие парящие орлы, можем обозревать литературную карту прошлого. Чего тогда не откроется любопытному взору? Иной раз увидишь, например, как два писателя, английский и русский, не знающие абсолютно ничего друг о друге, бродят где-то рядом, буквально по одним дорожкам, и создают произведения не просто сходные по духу, а порой буквально с той же самой драматической коллизией.
Интересно ли это? Да. Но существенно ли для истории литературы? На мой взгляд, очень существенно – ибо показывает, что сама эпоха была чревата этой мыслью и замыслом, что один и тот же ветер, веявший над Европой, разносил невидимые зерна, западавшие в души разноплеменных и разноязычных авторов, при условии особого сходства их душ и готовности к такому посеву.
С Робертом Браунингом и русской литературой такие скрещения произошли дважды с промежутком в тридцать пять лет. Первый эпизод связан с А. Пушкиным и его драматическими опытами.
Роберт Браунинг. Данте Г. Россетти, 1855 г.
Общепризнано, что именно в «маленьких трагедиях» (да еще, может быть, в «Борисе Годунове») Пушкин выступил в наибольшей степени «англичанином», проникнув в самое сердце английской драматической литературы. Одновременно он достиг и одной из своих высочайших творческих вершин. Его маленькие по объему болдинские пьесы выполняют те же функции, что и «большие» драмы, представляющие человеческий дух в момент его высшего напряжения. Как мог Пушкин написать эти поистине шекспировские по масштабу вещи, вдохновляясь произведениями явно не шекспировского масштаба (скажем, обрабатывая сцену из трагедии Джона Уилсона «Город чумы»)? Ответ на этот вопрос, может быть, содержится в следующих строках Бориса Пастернака:
Когда-то мнимо неоспоримое влияние Байрона на Пушкина я считал действием на Пушкина самой английской формы. Встречался ли я с гением Китса или блеском Суинберна, за любой английской индивидуальностью мне мерещился чудодейственный повторяющийся придаток, который казался главной и скрытой причиной их привлекательности, независимой от их различий. Это явление я относил к действию самой английской речи. Я ошибался. ‹…› Таинственный возбудитель, составляющий придаточную прелесть всякой английской строки, называется не ямб и не пятистопник, а Вильям Шекспир, и во всех присутствует и через все говорит