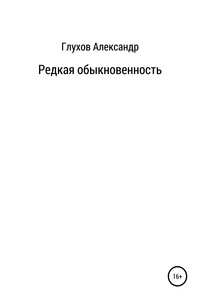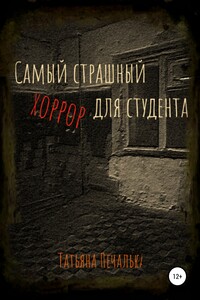Предатель любви | страница 11
— Ма-адой чеаэк, а, ма-адой чеаэк! — раздался позади гнусавый голос. — Это не вы обронили ка-ашалек?
Я прибавил ходу. За спиной забухали тяжелые шаги.
— Ладно, не кипешись, дурачок! — меня назвали по имени, на плечо легла увесистая ладонь. На ней синела полустертая наколка: «Оля». И еще сердечко.
Батон!.. Круглое лицо старого барбоса, посеченное шрамами, излучало детскую радость по поводу ловкого розыгрыша. Таких приемчиков Ренат, будучи сопленосым заводилой нашего двора, знал немало. Например, подложить кирпич в картонную коробку на видном месте или намазать лавку гуталином в парке культуры и отдыха, или разбросать коровьи лепешки на центральной улице города. За лепешками Ренат специально ездил на Левый берег. Самое обидное, что розыгрыш с кошельком считался верняком, я не раз в паре с Ренатом его проделывал. Впрочем, не все Ренатовы забавы были столь безобидными. Долгие годы, особенно когда было тошно, у меня перед глазами стояла объятая пламенем кошка, которую этот самый Ренат облил керосином. Батоном вечно голодный Ренат стал позже, классе в седьмом — после того, как украл в хлебном магазине батон белого хлеба. Рената скрутили и, пока не прибыла милиция, юный правонарушитель успел укусить за палец грузчика, обозвать продавщицу «падлой» и сгрызть полбатона. Короче, нелады с законом начались у Рената с незапамятных времен. В шестнадцать лет Ренат убил человека, отчима, за то, что тот ударил мать. Это был его первый срок. Потом были другие. Хладнокровный, расчетливый в деле и драке, попадался Батон в основном из-за женщин. Деньги и женщины — две страсти сжигали Рената, в жилах которого текли татарская и чуток бурятской крови. Этот крутой забайкальский замес понуждал Батона время от времени менять первое на второе.
Как-то это в нем уживалось — откровенное зло и спонтанная жалость к тем, кто слабее его. Однажды его жестоко избила на автовокзале шпана за то, что заступился за бездомного старика. Выписавшись из больницы, он первым делом отправил на больничные койки всех своих обидчиков. И в тот же день, к вечеру, снял на улице норковую шубу с женщины.
— Здорово, Гендос! — орал он в трубку после очередного исчезновения из города, чаще ночью. — Не спишь, гнида писательская? Все бумагу мараешь? — и заливался квакающим смехом.
Когда при встрече мы выпили, Батон разогнал вьющуюся вокруг него криминогенную шпану и, буравя налитыми то ли кровью, то ли вермутом глазками, задал свой коронный вопрос: «Послушай, а как люди книги пишут, а?» Мучил он его, что ли, нескончаемыми днями отсидки…