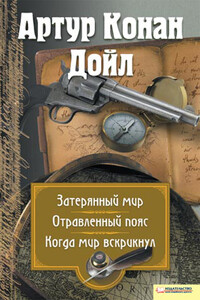Дверь | страница 33
Я чувствовала, как нарастает во мне готовое уже прорваться возмущение, но Эмеренц провела вдруг тыльной стороной ладони по глазам, отирая полукружья ресниц, и резко, без перехода, точно очнувшись, огрела беззаботно пирующую собаку по затылку ручкой большой вилки — и давай ее этой вилкой охаживать, обзывая по-всякому: и неблагодарной изменницей, и подлой вруньей, и бессовестной буржуйкой. Воя, пес спрыгнул с кресла и растянулся на ковре, безропотно покорясь неизвестно за что постигнувшей его каре. Если била Эмеренц, он никогда не пытался удрать или защититься. Творилось что-то ужасное, невероятное, такое может только присниться. Ежась и содрогаясь под ударами, пес от страха вывалил последний, непроглоченный кусок на любимый ковер матери. Я думала, Эмеренц заколет в конце концов Виолу этой вилкой, так она ею махала. Чего я ни перечувствовала в эти минуты — и до того испугалась, что завизжала. Но тут Эмеренц, присев возле собаки на корточки и приподняв ее голову, стала целовать между ушей. Та, заскулив, лизнула только что избивавшую ее руку.
«Ну, это уже слишком, пускай других зрителей поищет для своих нервных срывов», — подумала я и попросила сделать одолжение убрать объедки из комнаты моей покойной матери и, если не сочтет чрезмерным такое пожелание, не избирать нас больше статистами, а нашу квартиру — подмостками для представления сцен из своей запутанной личной жизни. Не так, положим, высокопарно выразилась, но в этом смысле — и ушла, надеясь, что поймет. Она все поняла. Я слышала ее шаги, хотя не знала, что она делает. Потом только обнаружилось, что приготовленные для долгожданного визитера сладости и шампанское убраны обратно в холодильник. Туда же поставила она другое, нетронутое, блюдо тоже с холодным жарким, явно для нас, а недоеденное собакой счистила ей в миску. Стало тихо, и пес тоже примолк. Я думала, Эмеренц ушла, но, оказалось только собирается, снаряжая Виолу: надевает ошейник, цепляет поводок. Каждый раз, когда что-нибудь будоражило собаку, выводила она ее на продолжительную внеочередную прогулку, даже если приходилось бросать ради этого стирку или глажку. Зайдя сказать, что сделает с собакой круг до рощи и обратно, Эмеренц уже выглядела, как обычно, и извинилась в дверях за случившееся. Никто, насколько я мог судить, не умел извиняться с подобным достоинством, без тени раскаяния или сокрушения. После ее извинений всегда оставалось ощущение какого-то насмешливого превосходства над вами, словно не она, а вы перед ней в чем-то провинились. Никаких объяснений происшедшего я, конечно, не получила; так они и ушли.