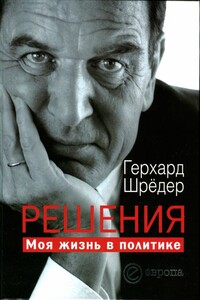Юрий Тынянов | страница 96
Происходит нечто совершенно неожиданное: Грибоедов для Бурцова оказывается не врагом-победителем, а внутренним врагом, да еще каким! Человеком, похожим на того, которого он, умеренный, яростно отговаривал от «неограниченной вольности». Оказывается, это спор не между декабризмом и реакцией, а старый спор между декабристом-либералом и декабристом-радикалом.
Сравнение с Пестелем в романе не тыняновское преувеличение и не тыняновский парадокс, а мнение декабристов-либералов о Грибоедове. Так думал не Тынянов о Грибоедове. Так думал о нем Бурцов. И как мнение либерала оно естественно и допустимо. Сравнение Грибоедова с Пестелем нужно для того, чтобы показать радикализм, декабризм проекта.
Грибоедов же (по Тынянову) существенной разницы между своим проектом и проектами декабристов, если бы они осуществились, не видит. С его точки зрения, разница лишь в том, что он все делает просто, без жеманства и поэтических украшений, а вот «Кондратий Федорович… человек превосходный… человек восторженный…» это же самое назвал бы по-другому «и верно гимн бы написал…». И Тынянов, конечно, прав: ведь Грибоедов думает, что было бы «то же, что и сейчас». Проект Грибоедова, несомненно, декабристский, несомненно, буржуазный, антифеодальный, европейский. И поэтому легко понять, почему его отвергает феодальная монархия, и трудно понять, почему его отвергают декабристы. Это становится понятным только тогда, когда выясняется, что его отвергают либералы, которые думают не о реальных последствиях победы, а живут поэтическими иллюзиями о свободе, равенстве и братстве. Эти люди, далекие от практической политики, не задумывались над тем, что иллюзии очень скоро должны были бы уступить место реальной необходимости, которой не до свободы, равенства и братства, ибо реальная необходимость потребовала бы защиты завоеванного и на патетические фразы, конечно, не стала бы обращать внимания.
Проект Грибоедова — это как бы результат несостоявшейся победы декабристов. Результат же этот, несомненно, был бы весьма отличен от первоначальных намерений, от иллюзий, в достаточной мере свойственных многим членам тайных обществ. Победа восстания тотчас же создала бы конфликт между благими намерениями и вынужденной для нового государства решительностью претворения их в жизнь. Опыт французской революции, якобинской диктатуры в этом смысле был совершенно очевиден, и если о нем мог не задумываться такой человек, как Бурцов, то, вне всякого сомнения, о нем задумывался такой человек, как Грибоедов. Его проект предусматривает, кроме благих намерений, еще и решительное претворение их в жизнь. Тут уж, конечно, было не до разговоров о свободе. Тут был куда более серьезный и деловой разговор: о том, что для людей что император Николай Павлович, что диктатор Павел Иванович — одно и то же. Грибоедов ненавидел слово «раб», но трезво смотрел на историю своего отечества. И поэтому он представляет, что бы сказали победители в будущем государстве: «И сказали бы вы бедному мужику российскому: младшие братья… временно, только временно, не угодно ли вам на барщине поработать? И Кондратий Федорович (который «литературою управлял бы») это назвал бы не крепостным уже состоянием, но добровольною обязанностью крестьянского сословия». Грибоедов прекрасно понимал, что бедному мужику российскому безразлично, как называется форма эксплуатации и кто его эксплуатирует — помещик или государство. Проект оказался так же вне времени, как и его автор. Он одинок. В желтой пустыне победы, далекий от других проектов, от «сумнительных» проектов печей и стеклянных заводов, для всех чужой, совершает он свой тысячеверстный путь. И проект и его автор гибнут по тем же причинам и от той же руки, что и декабризм.