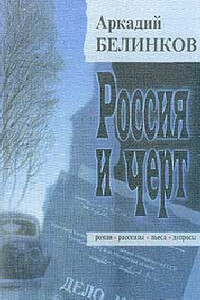Юрий Тынянов | страница 69
Строгий и осторожный историк, П. Е. Щеголев после многолетнего изучения материалов следствия и суда над декабристами делает такое заключение:
«Привлеченные к следствию заговорщики — от прапорщика до генерала — не проявили никакой стойкости и с удивительной безудержностью спешили поведать своим судьям все тайные действия, все слова, вымолвленные со значением и без значения в пустой болтовне, все мысли, даже самые сокровенные; спешили назвать возможно больше имен, хорошо зная, что всякое указание влечет за собой арест; не останавливались по временам даже перед наветами и оговорами своих товарищей и раскаивались, раскаивались без конца. Следователи без особых усилий добивались от своих подследственных ответов на все вопросы. Напрасно было бы объяснять такое чрезмерное обнажение тайн сознательным стремлением уяснить правительству смысл и значение своей заговорщической деятельности и таким образом как бы продолжить пропаганду дела. Такое объяснение не отвечает положению вещей, ибо — надо признать — огромное большинство декабристов выказало самое настоящее малодушие. Если бы они не были на следствии так красноречивы, так многоглаголивы, если бы больше думали о возможных результатах своих оглашений и выдач, то, несомненно, было бы меньше жертв, меньше страданий, и самая революционная идея не была бы сведена к такому ничтожному бытию, в какое она попала после суда над декабристами»[72].
Вероятно, П. Е. Щеголев не вполне прав, считая, что «полнейшая бессистемность показаний, обилие сообщений, признаний и раскаяний» вызваны только «малодушием».
Декабристы признавались во всем не под пыткой — с ними обращались весьма гуманно (конечно, по отечественным понятиям и порядкам). Они признавались не только из страха, от ослеплявшего всегда русское общество ужаса перед застенком, хотя хорошо помнили, что было с их предшественниками, и не только потому, что знали, что в России нет закона, а есть державная воля, и поэтому человек беззащитен и в любую минуту с ним могут сделать все, что нужно для «пользы отечества». Вне всякого сомнения, страх перед дознанием был чудовищным. Судилища, происходившие в павловскую и предшествующие эпохи, сопровождались пытками и кончались увечьями. Ужас общества был непреоборим, неизгладим.
Но страх был не единственным и, может быть, даже не главным из всего, что давало победу правосудию в самодержавной стране. И нужные показания были получены не только от трусов и не только от тех, кому пришлось особенно тяжело. Отношение же к подследственным было не одинаковым, и это было связано с тем, как тайный комитет и особенно сам Николай Павлович оценивали личность и поведение арестованного.