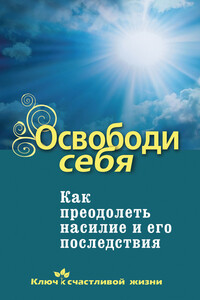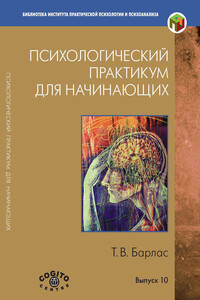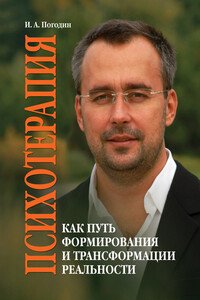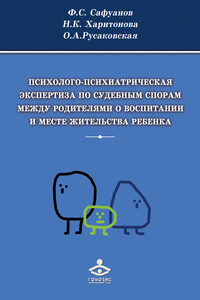Психоанализ. Среди Миров, Пространств, Времён… | страница 35
Два сна, представленные в одну сессию, высвечивают, как я думаю, элементы трансформации миров в пациентке. Высвечивают, как пациентка во втором сне борется с материнской ложью первого сна, с тем, что отец вообще не нужен и никакого отношения к рождению пациентки не имеет. Контролирующие и манипулирующие матери так и говорят: «Мужей (варианты – мужчин, отцов) может быть много, а мать одна!» Тем самым тоталитарные матери пытаются убить в психических пространствах дочерей имаго отца, водрузив туда кумира-мать. Монумент, сверхценный объект, мёртвого субъекта-мать. Ох, как хочется поставить диагноз каждому пациенту… Но такое желание – анахронизм.
Блестящий доклад Экстермана (Прага, 2006 год), показывает, что даже невербализованная (не проговорённая, не сообщённая) постановка диагноза пациенту, инвалидизирует пациента. Т. е. повторно травмирует, без шансов на успешное лечение.
На мой взгляд, самая сложная патология – патология нормы. Как теперь принято считать – мы все невротики, мы реагируем на большинство сложностей невротическими реакциями. Вот она – самая тяжелая патология. Почему? Потому, что это устоявшееся представление, отражённое реальными субъектами, в течение многих лет. И если что-то у человека не получается, а он считает себя нормальным, то зачем ему идти за помощью. И может ли он позволить себе получить помощь, если он нормальный, если он невротик? Совсем другое дело с так называемыми «психотиками» и «пограничными» (я думаю, нельзя оскорблять людей; лучше говорить – «человек, страдающий психотическим расстройством», или «пациент, переживающий психотические реакции», и «пациент в пограничном состоянии»… лучше же забыть о диагнозах). У таких пациентов нацеленность на получение помощи, т. е. на поиск отражающего объекта, на оживление объекта (стремление к субъект-субъектным отношениям) и на установление границ, на получение границ, выделение себя из окружающего мира, намного больше, как у детей. Мой психоаналитический опыт говорит: люди, испытывающие большее страдание, в анализе успешнее. Фройд описал подобное в своих «Лекциях». Но он относил более интенсивные переживания и страдания на счёт невротических пациентов. Правда, ныне многие психоаналитики считают, что у Фройда не было невротических пациентов… В любом случае – там, где Фройд устанавливал диагноз Dementia ргаесох, паранойя, депрессия, он ставил точку, для него такой пациент переставал быть единицей, становился нулём; тут и сказке конец… А сегодня – начало сказки… и было началом для Ференци, для Мелани Кляйн, для Биона, Балинта, Кохута… Потому что именно «нули» больше всего страдают, и именно они больше всего хотят получить помощь. Думаю, немногие аналитики работают и сегодня со страждущими… Здесь мы остановимся, чтобы вернуться к нашей пациентке.