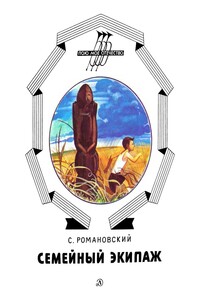Прощай, Акрополь! | страница 69
— Нет, — отвечал с досадой художник, — не известно…
— Посмотри, половина марки коричневая, а половина зеленая…
— Плохая печать… У нас всегда так — ничего не можем сделать как следует.
— Плохая печать? Да это же редкость, мой милый! Курьез!
— Если и есть курьез на земле, так это ты! — подняв глаза от палитры, усмехался художник. — Всю жизнь радуешься мелочам…
— И тебе я радуюсь. Может быть, это тоже курьезно? — говорила она ласково и касалась его плеча длинными гибкими пальцами.
«Такие пальцы бывают только на иконах…» — думал художник.
Она садилась рядом, стройная, окутанная вечерними сумерками; ее синее платье, цвет которого становился в полумраке еще интенсивнее, придавало ей бледность, руки, лежащие на коленях, удлинялись, тихие, опаловые, и он, глядя на нее, думал: «Ведь она не что иное, как сама вечерняя отрада, ниспосланная быстротечным временем, чтобы я мог, прикоснувшись, слиться с ней и потом навсегда отдать вечности».
Через несколько лет от ее «курьезов» ничего не останется. Они рассеются среди обычных вещей, потому что нет уже тех глаз, которые озаряли их живым блеском, превращали в сокровища; марки станут серыми, измятыми, государственные деятели и полководцы зябко съежатся в своих потрепанных мундирах.
Художник надеялся, что его иллюзии будут жить дольше. Верил, что кисти и краски спасут его от серых будней, от одиночества, которое подчас заставляло его поворачивать мольберт полотном к стене, чтобы не видеть всю эту бессмыслицу, которой он подчинил свою жизнь. Но кризис проходил. Художник соскабливал ножом все, что было нарисовано, и поверх коричневых борозд засохшей краски клал новые мазки. Возникали складки синего платья, вытягивались на коленях нежные бледные руки, какие могут сохраниться лишь в памяти, а вдаль уходили деревья, унося с собой в тишину бесконечности то, что было навсегда потеряно.
Это было время, когда еще не начались бомбежки и рельсы столичного вокзала, где толпились встречающие с букетами цветов, еще не врезались в небо, сорванные со шпал, похожие на вздыбленную лошадь.
Характер у него был трудный. Выше всего он ставил свое искусство. Случалось, назовет гостей, а сам поднимется из–за стола и удалится в соседнюю комнату к своим недоконченным полотнам. Жена всячески старалась занять гостей: рассказывала веселые истории, гадала на кофейной гуще, но гости обиженно вставали, гасили в пепельнице сигареты… и в этот момент он возвращался, беспечно брал салфетку, вытирал пальцы (на салфетке оставались следы краски) и весело говорил жене: «Мария, почему вы скучаете?» Взяв бутылку, он решительно наливал вино в рюмки, а она невольно вздрагивала: сейчас плеснет на скатерть. Но он плавным движением прерывал тоненькую струйку зарчина и, поставив бутылку, провозглашал тост. Хрусталь звенел, гости чокались, а ему казалось, что от этого звона вино становится гуще и пьяней.