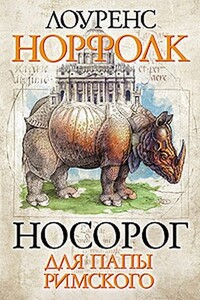Покой и воля | страница 48
Вот так Братишка.
Братишка лег наконец нормально. Повернул ко мне голову, лизнул руку, виновато поглядел в глаза.
— Пойдем? Попить хоть дам.
Он прошел со мной половину дорожки и снова улегся.
Жажда его мучила. К плошке с водой он сунулся оживленно и жадно. И тут же мучительно захрипел — петля наверняка истерзала ему глотку.
Он все же кое-как напился — разбрызгивая воду, то и дело ударяясь в кашель, делая, поднимая от плошки морду, такие глотки, будто проглатывал жесткий угловатый кусок.
Напился, а потом — вдруг повернулся и, даже не взглянув на меня, побежал назад к калитке.
— Братишка!!
Он бежал нестойкой, измученной, плохоуверенной побежкой и — не оглядывался!
Я ждал, печально замерев: куда повернет?
Если вправо, вверх по улице, то — к Закидухе, домой. Если влево…
Он повернул влево. Там был лес, а за лесом — санаторий.
Там оставалась его стая.
Больше я никогда не видел Братишку.
Братишку больше я не видел никогда.
Никогда.
А через неделю вышел журнал, в котором был напечатан «Джек, Братишка и другие».
Я еще не мог знать, что никогда не увижу больше Братишку, и с нетерпением ждал его прихода — чтобы испытать наконец хоть немного от той горделивости, появления которой я поджидал в себе с напечатанием этой первой моей, долго и мучительно жданной повести.
Кроме странной — приятной, впрочем, — грусти и внезапно образовавшейся опустошенности в душе, я, честно говоря, ничего не испытывал.
Слишком долго, и трудно, и нудно все это тянулось.
Я ждал Братишку, чтобы хоть за него порадоваться — чтобы все новыми глазами увидели, какой это замечательный пес — не просто добродушный симпатяга-дворняга, который всегда не прочь подхарчиться за счет дачников, а пес — личность, пес — умница, философ, гордец.
А он все не появлялся, не появлялся так долго, что через месяц уже и сомневаться нельзя стало, что он не появится больше никогда.
И от этого еще более умножилась и посеребрилась печаль посетившей меня радости.
Наверное, потому, что мы не в одночасье сообразили о гибели Братишки (еще и потому, что много хлопот было с Колькой, да тут еще и повесть вышла, и мы были растерянно ошеломлены будничностью этого события, несомненно, ожидавшегося как праздник…) — нас как-то не разом ударило, не так ударило скорбью от этой потери.
Не так, как от гибели Джека: тогда-то мы были одни-одинешеньки, посреди беспросветной зимы, тогда-то мы всеми своими силами, всеми отчаянными мольбами пытались оберечь наших псов от злодеев-шкуродеров, подло и незримо круживших вокруг нашего жилья (пытались, а уберечь не смогли: из трех собак остался один лишь Братишка), — и наше тогдашнее бессилие в противостоянии злу, и наше вмиг тогда возопившее одиночество в мире, и эта ничем не объяснимая подлость совершенного над нами — все это доставило нам тогда, помню, физически ощутимую боль рваной раны.