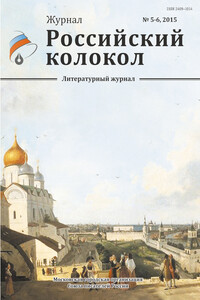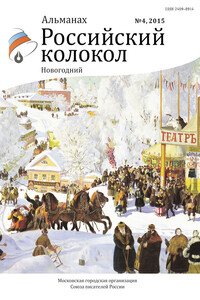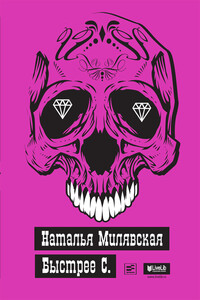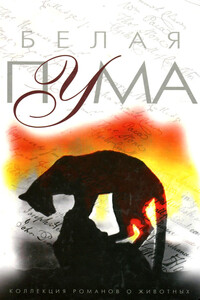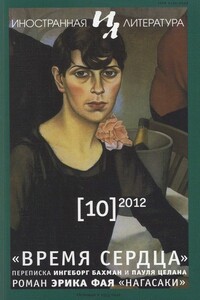Российский колокол, 2016 № 1-2 | страница 28
Что же необходимо для того, чтобы видеть цепь событий одномоментно и множить конкретные картины, каждая из которых является естественным продолжением другой? Ответ прост и сложен, умозрителен и нагляден одновременно.
Поэт должен обладать невероятно большим ростом, он парадоксально возвышается над временем, ему по силам озирать огромные земные пространства и приближать к глазам крохотные детали мира. Конечно же, перед нами метафизическая фигура певца, спрятанная в человеческое тело с неповторимым лицом, движением глаз, взмахом рук, голосом и походкой. У него есть имя и фамилия, родичи и друзья, отчий край, любовь, ненависть, борьба и милосердие. И ещё – чувство рода.
Именно оно сообщает мощный жизненный порыв процитированному выше стихотворению о великом русском древе.
Ясно понимаемое слово «мы» наполнено для поэтессы не только совершенно реальным расширительным смыслом, но и мистическим, когда на одной линии могут стоять и древний богатырь, и крестьянин-пахарь прошлых десятилетий, и солдат Великой Отечественной, и учитель-подвижник, не жалеющий себя в нынешнее, вероломное и подлое время.
Однако будни требуют от нас конкретных слов, насыщенных социальными и нравственными приметами жизни. И Кан предъявляет современнику поэтический очерк 60-70-х годов прошлого столетия. Оболганные и непростые для понимания десятилетия предстают как период покоя истерзанной кровавыми сражениями и коммунистическими экспериментами великой страны, которую прежде называли советской, а в глубине души понимали как русскую:
Поэтесса спускается вниз по временно́й лестнице, и взгляд её прикован к «делателям». Кстати сказать, в целом поэзия Дианы Кан исполнена гневного презрения к пустословам, кем бы они ни были – «шестидесятниками» с фигой в кармане или же патриотами-болтунами, которым для обустройства России не хватает лишь «пивка – для рывка». Полнота или скудость вечернего стола тут совершенно ни при чём, речь – о расчётливости сердца.