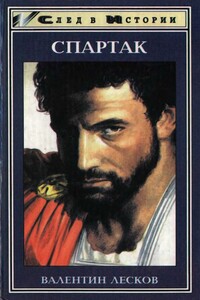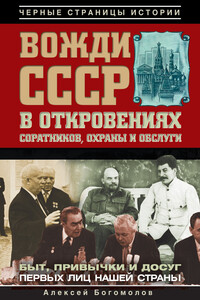Свидание с другом | страница 7
Наконец он решительно подошел ко мне, взял за руку и увел во второй зал.
— Ведь вам не хочется слушать, зачем же себя насиловать?
Мои объяснения, что я-де не могу и не хочу обидеть Пастернака, Есенин начисто отверг.
— Сам виноват, если не умеет завладеть слушателем. Вольно ему читать стихи так тягомотно. Сюда приходят пожрать да выпить, ну и заодно стихи послушать.
НЕСЕТ СЕБЯ КАК ЛИЧНОСТЬ
Теплой майской ночью мы идем вдвоем Тверским бульваром от памятника Пушкину. Я рассказываю:
— Встретила сегодня земляка. Он меня на смех поднял: живешь-де в Москве, а ни разу Ленина не видела. Я здесь вторую неделю, а сумел увидеть. Что же, Ленин им — экспонат музейный?
Есенин резко остановился, вгляделся мне в лицо. И веско сказал:
— Ленина нет. Он распластал себя в революции. Его самого как бы и нет!
Вместо ответа я прочла:
...вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!
и окровавленную дам, как знамя.
Так, что ли?.. Из Маяковского. Не узнали?
Я нарочно подразниваю спутника этим именем.
— Узнал, конечно... Из «Облака...» — И, возвращаясь к сути разговора, повторил:
— Ленина нет! Другое дело Троцкий. Троцкий проносит себя сквозь историю, как личность!
— «Распластал себя в революции» и «проносит себя как личность!» Что же по-вашему выше? Неужели второе?
И слышу в ответ:
— Все-таки первое для поэта — быть личностью. Без своего лица человека в искусстве нет.
(Вот оно как! Политика, революция, сама жизнь отступи перед законами поэзии!)
Сейчас, весною двадцатого, Сергей Есенин еще очень далек от замысла во весь рост дать в поэзии образ Ленина. Пройдут годы. Отойдет в глухое прошлое религиозный строй образов. «Распластал себя в революции!» Этой мысли своей поэт не отбросит. Но расценит по-новому
И мы прочтем в «Анне Снегиной»:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил
«Он — вы»
ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ
Лето двадцатого года. Сидим с Есениным у меня, в Хлебном,— кажется, по приезде его из Харькова Сергей в разговоре помянул Львова-Рогачевского. Помянул, как мне показалось, уважительно. А я в ответ рассказываю о его литкружке, где некая «Каэль» (то ли Ксения, то ли Клавдия, то ли Львова, то ли Лаврова), дама в длинных локонах а-ля Татьяна Ларина с надменным лорнетом в руке, так строго спросила меня, написала ли я в жизни хоть одно рондо.
— Но, допустим,— говорю я Есенину,- за своих кружковцев он не в ответе. У меня к их наставнику другой счет, поважнее. Год назад я как студийка неких «Курсов экспериментальной педагогики» по его заданию делала доклад о роли в поэзии параллелизма образов. Исходить мне предложено было из статей (он дал мне их сам) Веселовского и чьих-то еще. Я не ограничилась перекладом источников, привлекла и собственные соображения, подсказанные своим же поэтическим опытом и сравнительно приличным знанием новых и старых поэтов, русских и нерусских. Мой доклад именитый критик высоко одобрил, но добавил с укором: «Только почему же такие несерьезные примеры?» В докладе наряду с Пушкиным, Тютчевым, Гейне прозвучал в обильных цитатах Маяковский. Напомню: тогда, летом 1919 года только что вышел большой сборник «Все сочиненное Владимиром Маяковским», и приобрести его было проще простого.